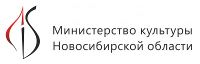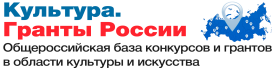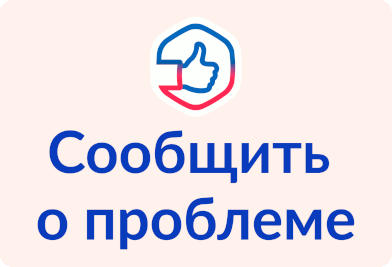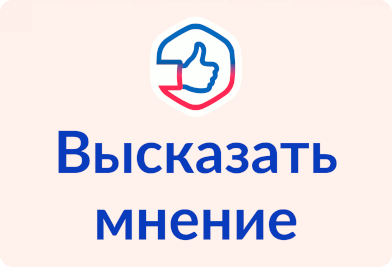Вы здесь
Ловля блох в сочинении по просьбе сочинителя
Нужно ли сочинителю знать, что делается в его земле?
Николай Васильевич Гоголь, переиздавая в 1846 году свои «Мертвые души», счел необходимым присовокупить обращение «К читателю от сочинителя»:
В книге, которая перед тобой, которую, вероятно, ты уже прочел в ее первом издании, изображен человек, взятый из нашего же государства. Ездит он по нашей русской земле, встречается с людьми всяких сословий, от благородных до простых. Взят он больше затем, чтобы показать недостатки и пороки русского человека, а не его достоинства и добродетели, и все люди, которые окружают его, взяты также затем, чтобы показать наши слабости и недостатки; лучшие люди и характеры будут в других частях. В книге этой многое описано неверно, не так, как есть и как действительно происходит в русской земле, потому что я не мог узнать всего: мало жизни человека на то, чтобы узнать одному и сотую часть того, что делается в нашей земле. Притом от моей собственной оплошности, незрелости и поспешности произошло множество всяких ошибок и промахов, так что на всякой странице есть что поправить: я прошу тебя, читатель, поправить меня.
Если сам автор напрашивается на поправки, почему не откликнуться?
Гоголь напрасно утверждает, будто в его сочинении многое описано неверно, он зря оправдывается. Извинения за всякие ошибки уместны, когда журналист в злободневной газетной статье или телевизионной передаче исказил факты — по незрелости, в спешке, по оплошности или (не такой уж редкий случай) с умыслом. Писатель придумывает, он, как раньше говорили, сочиняет, и чем красочнее его вымысел, чем затейливее его сочинения, тем меньше они соотносятся с тем, как оно действительно происходит хоть в русском, хоть в нерусском государстве. Издревле даровитые сказители приступали к творчеству, не видя надобности сначала узнать всего или хотя бы сотую часть того, что делается в их земле. Планы Гоголя показать лучших людей и характеры не осуществились, мы не обнаруживаем праведников в набросках второго тома. Осмелюсь предположить, что изобразить всецело добродетельного человека у Николая Васильевича и не получилось бы. По большому счету, если литератор задумывает своей сатирой, критикой и обличениями что-то исправить в обществе или, тем более, искоренить, если он, наоборот, решил воспеть достоинства и добродетели, надеясь сделать общество благолепным, в обоих случаях его усилия пропадают втуне.
Гоголевский Чичиков замечателен, будучи мошенником. Люди, с которыми он встречается, имеют свои слабости и недостатки, но Гоголь ошибается, уверяя нас, что с помощью Чичикова, через Чичикова показал какие-то пороки русского человека. По крайней мере, я не вижу в книге порочных людей, то есть таких, которые, по значению слова порок, предаются разврату или совершают что-либо мерзкое. Гоголь сочинил занимательную историю и мастерски выписал каждое действующее лицо — в этом сила, притягательность и долголетие «Мертвых душ». Потом, во все времена читателю нравились похождения разного рода смельчаков, ловкачей, плутов, лесных разбойников и морских пиратов, а не нудные бытописания с благочестивыми обывателями и благовоспитанными барышнями, притянутыми показательно к поучениям о нравственности и добропорядочности. Возьмем героя из какого-либо известного произведения, возьмем Григория Печорина: он отнюдь не принадлежит к лучшим характерам. Печорин смеется над всем на свете, особенно над чувствами; он любит для себя, для собственного удовольствия; он к дружбе неспособен; он имеет сильное предубеждение против всех слепых, кривых, глухих, немых, безногих, безруких, горбатых... Печорин (как и Лермонтов) и на многих из нас взирал бы с усмешкой или холодным презрением.
Гоголь попросил читателей поправить его. Делать критический разбор «Мертвых душ» я не берусь. Произведение замечательно в целом. Для обсуждения ошибок, фактических, смысловых и грамматических, потребуется слишком много времени, ибо ошибки, действительно, усматриваются почти на всякой странице. Я укажу на некоторые промахи, и состоят они в неосторожном или, если хотите, бездумном использовании иностранных слов. Мои рассуждения можно считать ловлей блох — в переносном смысле, его проясняет «Малый академический словарь»: «Ловить (или выискивать) блох (прост.) — находить мелкие недостатки».
Кстати, во время школьной учебы, когда дошла очередь до «Героя нашего времени», мне было никак не запомнить даже последовательность событий, и уж совсем за гранью моего понимания остались печоринские откровения, проникнутые самокопанием и самолюбованием. Лермонтов рассказывает о взрослых мужчинах и женщинах с их взрослыми поступками, в том числе неблаговидными, с их взрослой любовью, в том числе сопряженной с супружеской неверностью. Лермонтов писал для взрослых, а его роман навязывают маломысленным отрокам — не только для обязательного прочтения, но пусть они, отроки, изощряясь, дают характеристику взрослого человека, Печорина, и, ухищряясь, анализируют его поведение.
При внимательном чтении в более зрелом возрасте я в очередной раз разглядывал, по приглашению Лермонтова, княжну Мери, особенно ее сухощавую ножку, и вдруг мое внимание полностью переключилось с щиколотки на ботинки: они, оказывается, блошиного цвета! Блошиного? Это красиво? Лучше начать с вопроса: какого цвета блохи?
Портрет барышни в литературном сочинении и выписка о блохах из справочника по насекомоведению
Гоголевскому Ноздрёву приснилось, будто его высекли. Утром мерзкий сон объяснился прозаически тем, что всю ночь его кусали ведьмы блохи. Но я веду разговор не о кровососущих паразитах. Обувь лермонтовской барышни кажется мне удачным примером, если мы беремся высматривать мелкие литературные недостатки. Честно говоря, я далеко не сразу сообразил, что ботинки (точнее, их цвет) имеют отношение к блохам.
Лермонтов рассказывает, что к колодцу с минеральной водой подошли две дамы. Мы вслед за ним устремляем взор на молоденькую и стройную, одетую по строгим правилам лучшего вкуса:
...Закрытое платье gris de perles, легкая шелковая косынка вилась вокруг ее гибкой шеи. Ботинки couleur puce стягивали у щиколотки ее сухощавую ножку так мило, что даже не посвященный в таинства красоты непременно бы ахнул, хотя от удивления.
Представляя нам княжну Лиговскую, русский сочинитель использовал несколько французских слов. Наталкиваясь на подобные иностранные вкрапления, сегодняшний читатель сразу опускает глаза на сноску, где в данном случае цвет платья объясняется как серо-жемчужный, по поводу обуви сказано: красновато-бурого цвета. А при чем тут прыгучие насекомые? При том, что во французском словосочетании couleur puce существительное puce значит блоха. Забегая вперед, сообщу, что от этого puce неведомо кто и неизвестно для чего образовал прилагательное пюсовый.
Блохи действительно красновато-бурые? Особо дотошный читатель вправе усомниться: в пособиях по зоологии он вычитал, что окрас означенных паразитов включает все оттенки коричневого цвета, панцирь у блохи бывает желтоватого, рыжеватого и почти черного цвета.
И это плохо. Плохо, когда в художественном произведении есть малопонятные или непонятные выражения и чтение приходится прерывать, дабы свериться с примечаниями, заглянуть в иностранный словарь... Или даже в справочник по насекомоведению!
Следите за правописанием и особенно за смыслом!
В «Историческом словаре галлицизмов» gris de perle объясняется как жемчужный оттенок серого цвета. Приводятся примеры по использованию, в том числе из романа «Между вечностью и минутой» (1880), где М. К. Иогель, ныне забытый автор, доказывая, что описываемые господа принадлежат к избранному обществу, вкладывал им в уста французские фразы (совершенно пустые), и он следующим образом нарядил одного из своих героев — используя gris de perle в кириллическом написании, считая, видимо, это удачным литературным ходом: «в фраке, в белом галстуке и гри-де-перль перчатках». Лермонтов и Иогель блеснули перед современниками своим знакомством с тогдашней модой, но они исказили русский язык. Правильно говорить о платье и перчатках серо-жемчужного цвета, о жемчужно-сером платье и таких же перчатках.
Вы заметили, конечно, что Лермонтов пишет perles — во множественном числе: жемчужины, тогда как другие литераторы (и лексикографы) используют единственное число: perle (жемчужина). Пустяк? Нет, здесь ошибка, и ошибся наш прославленный поэт. Разница в одну букву и в русском языке приводит к нежелательному коверканию. Рассматривая желтую ткань, вы сравниваете ее с лимоном. Кто-то не соглашается: это цвет подсолнуха. Существительные лимон и подсолнух поставлены в родительном падеже единственного числа. Одежда бывает в горошек или в клетку, только полный неуч или иностранец скажет о платье, что оно в горошках или в клетках.
В устойчивых выражениях особенно важно следить за каждой буквой. Возьмем образное водить за нос. В «Мертвых душах» есть утверждение: «У нас так заведено, что все водят за нос барина». А вдруг бы Гоголь написал, что в России все водят барина (вернее, бар) за носы, как бы вам понравилось? Некоторые восторженные личности, наткнувшись на грамматическую неправильность в книге признанного классика, впадают в умиление и приступают к натяжкам и неправомерным допущениям. В «Записках сумасшедшего», как они были впервые напечатаны в сборнике «Арабески», мелкий чиновник Поприщин жаловался: «Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом, да и сукно совсем не дигатированное». Во-первых, перед выходом из дома Поприщин надел старую шинель. Она была очень запачканная и притом старого фасона. Почему через какое-то время он оказался в плаще? Ладно, согласимся, что в те времена шинель считалась разновидностью плаща, но, по построению всей фразы, на Поприщине был и не плащ, а суконные коротенькие воротники.
В своей ловле блох я ограничусь придиркой к прилагательному дигатированный. В последующих изданиях печатали уже дегатированный, тогда как первый издатель должен был сразу исправить: ткань декатируется и становится декатированной. А еще лучше было бы подсказать Гоголю, что в художественном произведении лучше не использовать технические термины. Про декатировку шерсти объясняют в специальных пособиях, ее применяют на суконных фабриках.
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова при глаголе декатировать есть ссылка на французское происхождение (фр. dйcatir), имеется помета спец., что указывает на его специальное использование в профессиональных кругах, после чего дается объяснение: «Обработать (обрабатывать) шерстяную ткань водяным паром или кипячением для предохранения ее от действия сырости». Я бы сказал проще: сукно пропаривают для принудительной усадки.
Гоголь ошибся с правописанием, но сегодня литературоведы (понятно, что не суконщики и не текстильщики) пристегивают его искажения дегатировать и дегатировщик к декатировать и декатировщик как правомерные варианты.
Неописуемый цвет бархатного сюртучка
Теряют ли блохи сознание? Иными словами: падают ли они в обморок? Любопытный вопрос, вы не согласны?
Я достал с очень дальних полок роман Константина Леонтьева «В своем краю» (1864) и предлагаю вашему вниманию следующую картину: бабушка, вспоминая своего второго мужа, которого звали Петр Петрович, рассказывает, как дочь Аша однажды обрызгала его водой:
― Ашеньке было лет пятнадцать, она взяла да из рукомойника Петра Петровича и облила всего. А на нем был с иголочки бархатный сюртучок, как этот цвет, Аша, звали?
― Puce йvanouie, maman.
Скучнейшее произведение с мелкими характерами и событиями, с бессодержательными речами... Я одергиваю себя: суди, дружок, не свыше сапога — такой совет художник дал сапожнику в известной пушкинской притче. Моим сапогом являются блохи как литературные недочеты, и, придравшись к французскому словосочетанию puce йvanouie, я для начала выщипываю из него существительное puce. Это уже знакомая нам блоха. Отыскиваем в словаре: йvanouie значит упавший в обморок. Блоха, упавшая в обморок? Получается, что так.
По прошествии лет, тем более десятилетий и столетий, смысл иностранных вставок частично или полностью затуманивается, но отметим сначала заурядные опечатки, со временем накапливающиеся. Пролистывая роман «В своем краю» в современном наборе, мы обнаруживаем, что йvanouie имеет написание evanouie — без косого значка над первой буквой. Это показывает, что сегодняшние редакторы и корректоры не знают и уж точно не чувствуют французского языка. И они тем более не берутся объяснить нам, какого цвета был сюртучок Петра Петровича.
В «Историческом словаре галлицизмов» нам предлагается буквальный перевод: «Цвет блохи, упавшей в обморок». Дается объяснение (со ссылкой на Р. М. Кирсанову, специалиста по истории одежды): «Оттенок темного пюсового цвета». Примером по использованию приводится та же вроде как забавная история с Ашенькой, обрызгавшей из рукомойника Петра Петровича. Вот так: puce йvanouie, разовое, возможно, использование во всей огромной русской литературе, использование неразумное, ввернутое для красного словца, закрепилось в справочниках и стало темой для догадок и спорных предположений! Couleur puce (блошиный цвет), как нам подсказали в примечаниях к «Герою нашего времени», значит красновато-бурый. Приняв во внимание дополнительное толкование по поводу puce йvanouie, мы присматриваемся к бархатному сюртучку Петра Петровича: он, получается, не просто красно-бурый, он с каким-то особым оттенком темно-красно-бурого!
Полюбопытствуем, что скажут другие толкователи. У меня под рукой «Словарь иноязычных выражений и слов, употребляющихся в русском языке без перевода», где я нахожу: «Puce йvanonie, фр. Цвета блохи, упавшей в обморок». Смотрите: у них опечатка во втором слове: правильно йvanouie. Предсказуемо, пример взят из той же книги К. Н. Леонтьева. При этом и в цитате вместо йvanouie стоит йvanonie. Так что мы имеем дело не с опечаткой, здесь ошибка. Ее допустили составители или наборщик, ее не заметили редактор и корректор. В словарях и справочниках такие оплошности нежелательны и, я бы сказал, недопустимы.
Во французских публикациях по одежде и моде пишут gris perle, тогда как мы обсуждали лермонтовское gris de perles и gris de perle у других русских авторов. Я не нашел puce йvanouie во французских источниках, хотя в достаточно многих публикациях смаковались такие цветовые изыски, как puce royale (королевская блоха), ventre de puce (блошиное брюшко), dos de puce (блошиная спинка), cuisse de puce (блошиная ляжка). Может быть, блоха, упавшая в обморок, была придумана неким русским шутником вослед французским затейникам — по поводу какого-то цветового оттенка, не обязательно темно-красно-бурого, а мы с ученым видом рассматриваем чуть ли не под микроскопом настоящих блох и изощряемся в умозаключениях.
Цвет, модный то ли некогда, то ли издавна
Лермонтов написал, мешая русский с французским, что княжна Мери носила ботинки couleur puce. Лев Николаевич Толстой использовал русское пюсовый, образованное от французского существительного puce, — в рассказе «После бала» он указал (без особой нужды) цвет одеяния, в котором супруга губернского предводителя встречала гостей: «Принимала... жена его в бархатном пюсовом платье».
Кто ввел в обиход новое прилагательное? По только что зачитанному примеру можно ли сделать вывод, что пюсовый притерлось и обкаталось в русском речевом обиходе, стало общеупотребительным? Не отвлекаясь на неразрешимый вопрос, полюбопытствуем, какое объяснение дал А. Н. Чудинов в своем «Словаре иностранных слов, вошедших в состав русского языка» (1910): «Пюсовый (фр., от puce блоха). Старинный модный коричневый цвет».
Коричневый? А мы уже затвердили про красновато-бурый.
Потом, я не вполне понимаю Чудинова: он хотел сказать, что пюсовый цвет был моден только в старину? Или он моден поныне со старинных времен? Или в давние времена он отличался от того коричневого, который привычен нам?
Если обратиться к менее известным справочникам, чего только не услышишь! Мол, пюсовый значит просто бурый. Или это коричневый оттенок красного, или цвет раздавленной блохи; приплетается та же блоха, упавшая в обморок; всплывает блоха в родильной горячке — будто бы существовал и такой оттенок... Я сдерживаюсь, приказывая себе, как гоголевский Поприщин: молчание, молчание! — но из меня сами собой лезут ядовитые замечания: не имеет значения, ботинки какого цвета стягивали у щиколотки сухощавую ножку княжны Мери, несущественно, какого оттенка было платье предводительши, неважно, из какой ткани были сшиты панталоны провинциального щеголя в «Мертвых душах»... Речь о его канифасовых штанах пойдет ниже. Если кто берется за литературное творчество, он должен рассказывать о поступках изображаемых лиц, о главных событиях в их жизни, не отвлекаясь на пуговицы, вытачки, кармашки, рюши, каблуки и прочие одежные и обувные мелочи. И потом: от литератора, пишущего по-русски для русской публики, мы вправе ждать только понятных русских слов.
Живописное полотно русской кистью с несколькими иностранными мазками
Мне думалось, что прилагательное пюсовый употреблялось ограниченно в картинах с изображением светских мероприятий, в сценах с титулованными особами: согласимся, что в их среде пюсовый звучит благороднее, нежели блошиный. Однако в рассказе «Старые годы» (1857) автор, П. И. Мельников-Печерский, в пределах одного параграфа вворачивает его два раза как расхожее русское слово:
Впереди пятьдесят вершников, на гнедых лошадях, все в суконных кармазинных чекменях, штаны голубые гарнитуровые, пояса серебряные, штиблеты желтые, на головах парики пудреные...
Берешь длинную цитату, так только успевай отлавливать блох! Кармазинный что значит? В «Толковом словаре» под редакцией Д. Н. Ушакова кармазин объясняется как сукно темно-красного цвета. Следовательно, в тексте Мельникова-Печерского прилагательное суконный — лишнее, нужно было написать, что вершники, они же всадники, были просто в кармазинных чекменях. Если лингвист Ушаков с коллегами считали, что идет речь о темно-красном цвете, в других справочниках мы читаем об алом, ярко-красном или густо-красном оттенках.
Мельников-Печерский написал про штаны: они гарнитуровые. Строго говоря, должно быть гродетуровые — от французского gros de Tours. Мы ищем отдохновения в художественной литературе, разве не так? — но чтение нам опять перебивают, заставляя гадать, чем гродетур (gros de Tours) отличался от гроденапля (gros de Naples), от гроделондра (gros de Londres) и от тафты (taffetas) — ими засорены русские художественные произведения, и в примечаниях все они объясняются схоже: плотная шелковая ткань. Отложив роман, отодвинув справочник по насекомоведению, вчитываться теперь в учебники по текстильному делу, вникать в тонкости, как в каждом случае скручивались волокна, и каким образом уток переплетался с основой?
Надеясь, что наше представление о чекменях и штиблетах совпадает с пониманием Мельникова-Печерского, мы продолжаем чтение:
Псари и доезжачие региментами: первый регимент на вороных конях в кармазинных чекменях, другой регимент на рыжих конях в зеленых чекменях <...>. А чекмени у всех суконные, через плечо шелковые перевязи, у одних белые, шиты золотом, у других пюсовые, шиты серебром. <...> За каретой четыре гайдука на запятках да шестеро пешком, все в зеленых бархатных кафтанах, а кафтаны вкруг шиты золотом, камзолы алого сукна, рукава алого бархату с кондырками малыми, золотой бахромой обшитыми. Шапки на гайдуках пюсового бархату с золотыми шнурами и с белыми перьями...
Что такое регимент, легко объяснить, это по-польски полк. А вот чем чекмень отличается от кафтана и камзола, какой оттенок красного цвета имел в виду Мельников-Печерский, используя прилагательное кармазинный, и какой смысл он вкладывал в прилагательное пюсовый, — сие остается неясным.
Блоха в целом, по частям и в раздавленном виде
Рано или поздно мы выходим на Р. М. Кирсанову, уже упомянутую выше, на ее справочник «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок» (1991), где по поводу блошиного, простите, пюсового цвета, Раиса Мардуховна сообщала следующее:
Пюсовый — цветообозначение, красно-бурый цвет. Известно еще с конца XVIII века. Существовало несколько оттенков пюсового, например мечтательной блохи — puce rкveuse, блохи, упавшей в обморок, — puce йvanouie, и т. д. Традиция давать цветам причудливые названия ясно обозначилась еще во второй половине XVIII века. Л. С. Мерсье, чьи очерки были очень популярны в России, писал: «Теперь, когда я пишу, модным цветом в Париже считается цвет блошиной спинки и блошиного брюшка. С тех пор цвет парижской грязи и гусиного помета взяли верх».
Когда Павел Иванович Чичиков явился на бал, губернские дамы тут же обступили его блистающею гирляндою. Далее Гоголь рассказывает, что «в нарядах их вкусу было пропасть: муслины, атласы, кисеи были таких бледных, бледных модных цветов, каким даже и названья нельзя было прибрать (до такой степени дошла тонкость вкуса)». Я полагаю, в городе N не имелось своего французика из Бордо, он со своим тонким вкусом живо подсказал бы русским барышням и барыням, как прибрать названья для всех оттенков, сопоставляя их, скажем, с тараканами и сближая, предположим, с коровьим навозом.
Поначалу нам представляется, что французские модники перед тем, как окрестить причудливо то или иное цветообозначение (как выразилась Кирсанова), ловили блоху — на себе или вынимали из блохоловки под фижмами своей спутницы, рассматривали и определяли, какого цвета у нее спинка и брюшко. Но, поскольку некий окрас назван блошиной ляжкой (cuisse de puce), мы вправе заподозрить, что словесные курьезы не имели, так сказать, привязки к настоящему насекомому, особенно в таких случаях, когда какой-то оттенок нарекли блохой, упавшей в обморок.
Мне попалась история, будто Людовик XVI ввел блоху в цветовую палитру: летом 1775 года, увидев, как Мария-Антуанетта наряжается в коричневое платье из тафты (une robe de taffetas d’une couleur brune), король воскликнул со смехом: «C’est couleur de puce!», и придворные, вдохновленные монаршим почином, взяв puce за основу, кинулись, тоже посмеиваясь, соревноваться в изобретательности, давая блошиные именования краскам и оттенкам.
Пустой анекдот приобрел силу письменного источника, ибо был в свое время напечатан, но я от него отмахиваюсь и предлагаю серьезные рассуждения английских филологов. В конце XVIII века французское puce было заимствовано в английский с объяснением: flea-colour (цвет блохи) и пояснением: purple brown, что можно понимать как лилово-коричневый, пурпурно-коричневый или красновато-коричневый. Несколько расплывчато, особенно если сравнить с русским красно-бурый. Мне кажется верным утверждение, что первоначально блошиный цвет соотносился не с самими паразитами, а с пятнами крови (bloodstains) на постельном белье от раздавленной блохи или же с блошиными, прошу прощения, испражнениями (droppings): пятна, будучи замытыми, приобретали особенный красновато-коричневый оттенок. Правда, другие английские языкознатцы предполагают, что такой цвет имели струпья, образовавшиеся на коже от блошиного укуса (и последующего расчеса). При этом утверждается, что в Англии блошиный цвет под своим английским названием flea-colour известен еще с XIV века, то есть задолго до того, как в XVIII веке его стали использовать в своих словесных играх французские законодатели моды в светских и даже придворных кругах: Мария-Антуанетта будто бы отдавала предпочтение пюсовым нарядам.
В XIX веке puce пришелся по вкусу широкой парижской публике. Эмиль Золя в романе «Нана» (1880) описывает представительницу той публики, даму, одетую в темное платье неопределенного цвета, между блошиным и цветом гусиного помета (vкtue d’une robe sombre de couleur indйcise, entre le puce et le caca d’oie). В русском переводе сей литературный перл подан в поблекшем виде: нечто среднее между красно-коричневым и желто-зеленым. Я оправдываю переводчика. Будем снисходительны к английским денди с их блажью, пусть французские галантомы, куртизаны, инкруаябли и фашионабли (они же фешенебли) дают одежным расцветкам какие угодно прихотливые именования, обогащая свой жаргон парижской грязью, мечтательными блохами, блошиными и гусиными испражнениями, но незачем грязнить ими искусство. Если французская литература была загрязнена — с высокомерным оправданием, что художник вправе или даже обязан показывать нам все, как оно есть в жизни, нет необходимости переносить буквально в художественные произведения, издаваемые на русском языке, изощрения французского натурализма.
Романический герой во фраке цвета гусиной неожиданности
Отличительной чертой русской знати было умение говорить не по-русски. Ежели человек желал вращаться в обществе, он осваивал французскую речь, иначе над ним будут посмеиваться или прямо в глаза смеяться, и некоторые господа общались по-французски не только на светских раутах, но и в семейном кругу, со снисходительным переходом на русский при вынужденном общении с челядью и представителями низших сословий — здесь я предлагаю заслушать объяснение человека знатного из комедии «Чудаки» (1790). Автор, Яков Борисович Княжнин (1742—1791), вывел его под именем Ветромаха:
Считаю наш язык за подлинный jargon,
И экспримировать на нем всего не можно, —
Чтоб мысль мою сыскать, замучишься безбожно!
По ну́жде говорю я этим языком —
С лакеем, с кучером, со всем простым народом,
Где думать ну́жды нет!.. А с нашим знатным родом,
Не знав французского, я был бы дураком!
Вы улыбаетесь снисходительно: комедийный персонаж преувеличивает, он, по воле Княжнина, перебарщивает и пересаливает! Напомню, что ту же мысль высказал Александр Сергеевич Пушкин в произведении не комическом. Зная нравы, обычаи и условности своего времени, он объяснил, за счет чего Евгений Онегин, начиная светскую жизнь, сразу прослыл человеком милым и, главное, ученым:
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше?
Дабы, по выражению Ветромаха, не быть дураком, нужно было улавливать и быстро вводить в свою речь долетавшие из Франции новомодные словечки, из которых я вылавливаю сейчас мердуа — сие заимствование вписывается в наш разговор о блохах с их спинками, брюшками, ляжками и испражнениями, в нашу беседу о необычных одежных расцветках, и оное мердуа будет весьма показательным примером, до какой степени марался русский язык.
Я не ведаю, какой представитель знатного рода и в каком точно году восемнадцатого века блеснул прежде других своей осведомленностью о последних заграничных событиях, когда в петербургском салоне, лорнируя разодетых дам и кавалеров, он сообщил, что в Париже самым модным цветом стал couleur merde d’oie. Полагаю, от неожиданности кто-то сконфузился, кто-то прыснул со смеху, но истинно светские люди умели скрывать свои чувства, они отреагировали, скорее всего, легкими, вроде как понимающими восклицаниями, торопливо соображая: если что-то придумано в Париже, нужно как можно скорее перенять, и, если придумщики не стыдятся, нам ли конфузиться? И после первой оторопи все кинулись восхищаться: мердуа, кто же спорит, нет более изысканного оттенка, чем мердуа, — так же легко выговаривая, как с великосветских и полусветских уст до этого слетало: couleur puce, puce йvanouie, ventre de puce, dos de puce, cuisse de puce...
Подобные пикантные словечки и вообще многие иностранные заимствования, на какой-то срок входившие в моду, со временем забылись бы без ущерба для нашей родной речи, но, я уже говорил, литераторы, языковым чутьем не обладавшие, внедряли их в свои пьесы, стихи и повести, тем самым словесный мусор увековечивая. Кто-нибудь одернет меня: вы утверждаете, что Мельников-Печерский и Леонтьев... Нет, вы хотите сказать, что Михаил Юрьевич Лермонтов и Лев Николаевич Толстой, мастера в писательском деле, не обладали чувством языка? Выскажусь иначе: даже таким признанным мастерам пера, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь и Толстой, языковое чутье иногда отказывало.
Давайте зачитаем еще один отрывок из комедии «Чудаки» и убедимся, что пикантное мердуа, в написании мердоа, долетело до наших ушей через два столетия по вине, или, если хотите, по милости литератора Княжнина.
Улинька Лентягина, ветреница смиренная, как ее представил нам Княжнин, слышит вопрос служанки Марины:
Так вы, сударыня, намерены забыть
Прията милого?
Прият — одно из действующих лиц: «молодой, весьма романический дворянин, влюбленный в Улиньку». Драматург придумал ему имя, образованное от прилагательного приятный, сразу раскрывающее его характер. Отвечая служанке Марине, ветреница Улинька высказывает откровенно причину своего нерасположения к воздыхателю: Прият слишком робкий.
Я не хочу любить
Того, который все исподтишка вздыхает,
Который робкими шагами подступает,
Которого любовь как будто хочет красть.
Он сердца не берет, а щиплет все по точке:
Во фраке мердоа и в розовом платочке,
По вечерам один, задумчив и смущен,
Так томен и уныл, как будто Селадон,
По рощам и лугам с овечками гуляет
Иль под окном моим по холодку пылает...
Как скучен! он меня до смерти залюбил.
Вы усмехаетесь: можно ли считать настоящим литератором человека, который пишет подобным слогом? Послушать только: Прият исподтишка вздыхает, он по холодку пылает, он щиплет сердце бедной девушки по точке, и вообще до смерти ее залюбил. Не торопитесь выносить приговор: ознакомившись с комедией в целом, мы убеждаемся, что так затейливо изъясняется (по замыслу и воле сочинителя) только Улинька, дочь господина Лентягина, недавно вышедшего в дворянство. Для нее вычурные словесные обороты есть признак благородства и светскости. Улинька принадлежит, очевидно, к тем барышням, которые все время с французской книжкою в руках (как Пушкин сказал о Татьяне Лариной). Ей известен мечтательный, от любви изнывающий Селадон из пасторального романа «Астрея», с ним она сравнивает своего обожателя Прията. Неудивительно, что она, мещаночка во дворянстве, тянется к Ветромаху. У того, как выразился отставной судья (еще один персонаж в комедии):
...весь ум в французских лишь словах,
В помадах и духах и в пудре благовонной.
Барышня на то и купилась: на духи, на помады и французские словесные выверты. Для нее Ветромах ловок, и остер, и весел, и пригож. Скучный Прият до смерти ее залюбил, тогда как Ветромах, по ее же отзыву: «Один налюбит он на разные манеры». Нет, не будем предаваться игривым предположениям, будто ловкий и пригожий кавалер обучил девушку разным способам постельной любви. Ничего подобного у Княжнина нет! Слуга Пролаз называет Улиньку вертлявой барышней с куролесными чувствами, и, как мы уже отметили, одной из ее, скажем так, куролесиц является диковинное построение фраз. Конечно, Улинька, отмечая способность Ветромаха налюбить на разные манеры, имеет в виду разнообразие его ферлакурства, и в целом ей импонирует галантность напомаженного любезника. Ветромах делал куры, или ферлакурил, — оба выражения восходят к французскому faire la cour, что значит ухаживать (за женщиной). Хотя заимствования вроде импонировать, мной только что использованные, в данном случае созвучны понятиям и предпочтениям Улиньки, хотя они в духе того времени, когда в светском обществе, бывало, ни звука русского, ни русского лица не встретишь, я подберу соответствия из родной речи. Ферлакурство значит волокитство. Вместо галантный можно использовать учтивый. Ветромах волочился за барышней (не собираясь на ней жениться), он ее обхаживал, ей льстило его любезное обхождение.
Взявшись судить не свыше сапога, я оставляю общий разбор «Чудаков» и сосредотачиваюсь на одном французском заимствовании мердоа, которое я повторил уже несколько раз, назвал пикантным... А что это по-русски? Преодолевая смущение, куда более сильное, нежели у Прията, гуляющего по холодку под окнами любимой им Улиньки, берусь за перевод. Мы узнали и даже запомнили (вместо того чтобы отложить в памяти куда более полезные вокабулы), что озорные французы придумали для зелено-желтого цвета название caca d’oie, где oie значит гусь, а вот caca, обычно переводимое как помет, если точно, указывает на детскую неожиданность в том ее виде, когда ребенок, как говорится, сходил по-большому. Мне как-то неловко, хотя вроде бы нет ничего неприличного, ведь идет речь о естественных человеческих отправлениях. Я выйду из затруднительного положения, просто повторив объяснение из «Французско-русского словаря», составленного К. А. Ганшиной: «Caca детск. ка́ка (кал)». Здесь же приведено и словосочетание caca d’oie (поскольку оно не раз и не два встречается в письменных источниках) с объяснением, нам уже знакомым: зеленовато-желтый цвет.
Французское merde d’oie, писавшееся по-русски как мердуа и мердоа, имеет такой же состав, что и caca d’oie, — морфологический, я хочу сказать. Существительное oie (гусь) мы накрепко выучили, а новое для нас merde будет тем же caca, только по-взрослому. Вам не нравится, что я робкими шагами подступаю, как Прият в комедии Княжнина, вы требуете, чтобы я называл все своими именами? Нет, у меня язык не поворачивается, и я отделываюсь от вашего вопроса с помощью пушкинского восклицания: «Шишков, прости, не знаю, как перевести!» Вы уж сами посмотрите в словаре. Впрочем, если что-то, пусть даже непечатное, в словари внесено и после редакционного утверждения пошло-таки в печать, если оно в словарях зафиксировано, как любят выражаться настоящие филологи, почему бы мне просто не переписать то, что я вижу у Ганшиной: «Merde груб. 1) кал; 2) дерьмо».
Таким образом, молодой дворянин Прият, влюбленный в Улиньку, носил фрак, цвет которого соответствовал гусиному калу или, прошу прощения, дерьму. А Улинька, от низостей весьма далекая, по уверениям ее матушки, означенное цветообозначение милыми губками называет, ничуть не смущаясь: мердоа.
Поскольку иноязычные puce и merde нашли место в книгах, читаемых и в наши дни, приходится растолковывать их значение сегодняшней публике, куда более широкой, нежели в восемнадцатом и девятнадцатом веках, но менее образованной. Простите, наоборот, сегодня у нас все поголовно охвачены средним образованием, многие и высшим обзавелись, отдав пятнадцать лет на изучение таких полезных вещей, как биссектриса, гипотенуза и катеты, синусы и тангенсы, пестики и тычинки, суффиксы и морфы. Кое-кому крепко запали в память гипербола и парабола из геометрии. Нет, простите, первое из алгебры, второе, кажется, из литературы. То есть наоборот... Короче говоря, в наше время всех основательно учат, чтобы каждый россиянин имел широкие познания, обладал широким кругозором и был специалистом широкого профиля, знающим и про тангенсы с пестиками, и про морфемы с параболами. В прошлые столетия достаточно было поднатаскаться по-французски и ловко прыгать антраша.
В 1790 году современники Княжнина, читатели и театральные зрители, будучи, по тогдашним меркам, людьми образованными, то есть знающими французский язык, сами понимали, что такое мердоа в устах Улиньки, но сегодня требуется объяснение, и в примечаниях к комедии «Чудаки» оно дается (в менее резкой форме, чем в словаре Ганшиной): «Мердоа — цвета гусиного помета (от фр. merde d’oie)». Здесь же объясняются другие сотизы и бетизы (то бишь глупости) — обрусевшие французские заимствования, коими гордо сыплет Ветромах: экспримировать — выражать (от фр. exprimer), крим — преступление (от фр. crime), мерит — достоинство (от фр. merite), сибуль — лук (от фр. ciboule), сотиз — нелепость, вздор (от фр. sottise), бетиз — глупость (от фр. bкtise)...
Читая «Чудаков» (не без удовольствия), я ждал, что рано или поздно наткнусь на пюсовый (от фр. puce), но, как ни странно, блохам в комедии Княжнина не нашлось места, ни мечтательным, ни падающим в обморок, ни в целом виде, ни в расчлененном на спинки, брюшки и ляжки.
Почти что клинический анализ смеси из трех красок, имеющей отношение до коммерции
В 1787—1792 годах в Москве выходил по частям «Словарь коммерческий, содержащий познание о товарах всех стран, и названиях вещей главных и новейших, относящихся до коммерции». Его перевел с французского Василий Лёвшин (1746—1826), плодовитый и чрезвычайно работоспособный литератор. Во второй части «Словаря» (1789) мы обнаруживаем мердуа в коротком дополнении к обширной статье, посвященной гусям (как прибыльному предмету торговли): «Цвет мердуа, значащий Гусиной кал, составляет смесь из желтой, зеленой и черной краски: после чего сходствует несколько на кал сей птицы, от чего и прозван. Естественный же гусиный кал горячестию своею вреден всем растениям».
Вот кто виноват: Василий Лёвшин! Мы не вправе укорять Улиньку Лентягину, когда она говорит, что Прият во фраке мердоа, ведь смиренная ветреница только повторяет слова, написанные для нее господином Княжниным. С господина Княжнина мы не снимаем обвинений: сочиняя комедию и придумывая реплики для своих чудаков, он вполне мог обойтись без скабрезного французского заимствования, ибо, как я уже говорил, цвет одежды, которую носит тот или иной герой, не имеет решительно никакого значения. Яков Борисович, впрочем, действовал без злого умысла, он бездумно вставил в текст словечко, бывшее в те годы на слуху и в ходу, как многие литераторы украшают свои писания бытующим словесным мусором. А вот господин Лёвшин зафиксировал скверное словечко в справочном издании, подвергнув его прямо-таки клиническому анализу... Я разошелся со своими выпадами и вдруг спохватился: неправомерно пинать Василия Лёвшина, простите, пенять ему, ведь он не отсебятину людям навязывал, он выступил переводчиком, он следовал французскому оригиналу — добросовестно (хотя и как-то скованно, не решаясь отказаться от французского синтаксиса). Даже наоборот, следует благодарить Василия Алексеевича: тогдашние русские предприниматели и потребители познакомились с названиями вещей главных и новейших, и означенный цвет мердуа тоже имел коммерческую значимость! Как важно, чтобы заказчики и поставщики правильно понимали друг друга. Дабы не происходило досадных ошибок. Дабы вторые, то есть поставщики, находясь где-то во Франции, отгрузили первым, то есть заказчикам, находившимся в России, фраки именно мердоа, а не, предположим, бу-де-пари (boue de Paris), то бишь парижскую грязь, о которой писал Луи-Себастьян Мерсье (1740—1814) в «Картинах Парижа» (Le Tableau de Paris): грязь как цветовое название, вкупе с merde d’oie, в какой-то момент потеснила в светских салонах и, следовательно, на рынке блошиную спинку и брюшко (dos et ventre de puce).
Борьба за чистоту русского языка и культурность речи
Много говорится, подчас с вдохновением, искренним или наигранным, о культуре речи, а вот Лев Троцкий призывал бороться за ее культурность. В 1923 году он через газету «Правда» увещевал советских трудящихся не сквернословить и заодно объяснил происхождение нецензурных слов:
Брань есть наследие рабства, приниженности, неуважения к человеческому достоинству, чужому и собственному, а наша российская брань — в особенности. Надо бы спросить у филологов, лингвистов, фольклористов, есть ли у других народов такая разнузданная, липкая и скверная брань, как у нас. Насколько знаю, нет, или почти нет. В российской брани снизу — отчаяние, ожесточение и прежде всего рабство без надежды, без исхода. Но та же самая брань сверху, через дворянское, исправницкое горло, являлась выражением сословного превосходства, рабовладельческой чести, незыблемости основ...
Выше я помянул А. С. Шишкова — связав свои выпады против иноязычных вкраплений с шишковскими «Рассуждениями о старом и новом слоге», в коих Александр Семенович обрушился как раз на гадкое французское мердуа: «Французы выкрасят сукна и дадут цветам их названия: мердуа, бу-де-пари и проч. <...> Как! и все это должно потрясать язык наш?»
Шишков негодует, но, по его простодушной подаче, чуждые и ненравственные словечки чуть ли не сами, без человеческого участия, проникают в русскую речь и, затесавшись, производят потрясения и всячески зловредничают.
Троцкий смотрит, как говорится, в корень. Диву даешься, как он, как большевистские вожди (и, в мое время, советские пропагандисты) уверенно и складно отвечали на любые вопросы, в том числе вековечные, до них никем не решенные, — применяя свой классовый подход, названный ими научным и единственно верным. С его помощью познается ход истории, выявляются причины всех войн, восстаний и переворотов, объясняются все события в обществе и поведение отдельных граждан, вскрываются ошибки всех предыдущих мыслителей, указываются определенные цели, ближайшие и конечные, ставятся четкие задачи для всех членов общества... Под языкознание тоже подвели марксистскую основу, и только что мы выслушали, как Троцкий по-марксистски растолковал, почему в русском языке появились и существовали нецензурные выражения: потому что общество до революции делилось на господ и холопов, брань является наследием рабства.
Будучи филологом, или, если хотите, лингвистом, что одно и то же, я мог бы привести иностранные ругательства, ничуть не уступающие русским по липкости и разнузданности, только у меня нет желания отвлекаться на препирательство, ибо кто-то кинется уверять, что филология тем-то и тем-то отличается от лингвистики, другие упрутся, доказывая из своеобразного патриотизма, что наша обсценная лексика самая скабрезная.
Удивительное сходство наблюдается между особо известными защитниками культуры и радетелями о языковой чистоте. Время от времени они грозно вскидываются и призывают бороться, словно к военным действиям нас подталкивая. А кто враг, против кого или против чего нам, собственно, выступать и чем нам вооружаться? Ополчиться можно только на носителей языка: учить их правильным словам, втемяшивать им в голову правильные выражения... Помню раздражение нашей школьной словесницы: мы делаем столько упражнений, мы пишем столько диктантов, сочинений и изложений, но в каждой тетрадке каждый раз грамматические ошибки! Учительница ругала тех, кто никак не научится правописанию, она ставила плохие оценки... Однажды на особом собрании в актовом зале директор, завуч и учителя обрушились на нерадивых подростков, которые нецензурно выражались, то есть, попросту говоря, матерились (о чем было узнано, когда подростки, забыв всякую осторожность, сквернословили во дворе прямо под окнами директорского кабинета, открытыми по случаю жаркой погоды).
Поскольку предыдущая борьба не дала ни разу желаемых результатов, может быть, следует действовать более жестко? Штрафовать нарушителей речевой чистоты в школах и цехах, конторах и магазинах, прямо на улице, в конце концов, а если кто упорно нарушает языковые нормы, тех вообще отправлять на перевоспитание в заведения закрытого типа. Вот еще действенная мера, в давние времена применявшаяся: за употребление неприглядных речевых оборотов (особенно в адрес властей) язык укорачивали — тот, который у каждого из нас во рту в качестве органа речи, его в буквальном смысле урезали — тем, кто не умеет означенным органом правильно владеть.
Зачитаю еще один показательный клич из той же статьи Троцкого: «Борьба с ругательствами есть в то же время составная часть борьбы за чистоту, ясность и красоту речи». Взявшись наводить чистоту и красоту с большевистской твердостью, Троцкий недалеко ушел от А. С. Шишкова, который сравнивал себя и вверенную ему императорскую Академию с вооруженным стражником:
Если Академия есть страж языка (ибо что ж она иное?), то и должно ей со всевозможною к общей пользе ревностию вооружаться против всего несвойственного, чуждого, невразумительного, темного, ненравственного в языке. Но сие вооружение ея долженствует быть на единой пользе словесности основанное...
Внимая выспренним рассуждениям о красоте и чистоте, мы вправе попросить уточнений у Троцкого и Шишкова: что в языке считать красивым и чистым, по какому признаку разделять существующие части речи и словарные единицы на свойственные и несвойственные, на нравственные и ненравственные?
Шишков и ему подобные путают язык с человеческими высказываниями, оценка которых тоже никогда не будет однозначной, ибо каждый судит по своему разумению, с личным пристрастием, в зависимости от обстоятельств и обстановки, с оглядкой на окружающих, наконец, под воздействием своего переменчивого настроения. Мне, например, кажется темной и невразумительной речь Троцкого, когда он берется объяснять, почему иной искренний и преданный коммунист называет всех женщин бабьем:
Происходит это оттого, что разные области человеческого сознания изменяются и перерабатываются вовсе не параллельно и не одновременно. <...> Психика весьма консервативна, и под влиянием требований и ударов жизни изменяются в первую голову лишь те области сознания, которые непосредственно под эти удары подставлены.
Пролетарии, если они вообще читали статью Троцкого в «Правде», хлопали глазами, и не каждому интеллигенту были понятны психолого-лингвистические умствования говорливого марксиста. Троцкий, пользуясь случаем пообщаться с трудовыми массами и блеснуть ученостью перед товарищами по партии, вошел, что называется, в раж, то бишь распалился, но все его обличения и призывы, все его негодование является пустым краснобайством.
Такой же бесплодной, в пустоту обращенной была «Речь о чистоте российского языка», с которой еще в 1735 году выступил В. К. Тредиаковский (1703—1768) перед членами Академии наук. Неосуществимое желание привести язык в совершенство сочеталось у Василия Кирилловича с лакейскими поклонами в адрес академического начальства. В своем выступлении он провозгласил главным радетелем о совершенствовании русской речи — не смешно ли? — курляндского немца по имени Иоанн Альбрехт барон фон Корф, поставленного во главе Академии немцем же Эрнстом Иоганном Бироном, фаворитом герцогини Курляндской, в 1730 году вдруг оказавшейся на русском престоле.
Эту же напыщенность, это же колокольное сотрясение воздуха, это же заискивание перед верховной властью мы видим в восклицаниях А. С. Шишкова (1754—1841). Он дослужился до адмиральского чина, в 1813 году его, военного человека, назначили руководить Императорской Академией Российской (будто это корабль или морское ведомство). Устав сего славного учреждения был начертан княгиней Дашковой, затем апробован, то есть одобрен и утвержден, императрицей Екатериной II, в нем определялось, что она, Академия, «долженствует иметь предметом своим вычищение и обогащение российского языка, общее установление употребления слов онаго, свойственное оному витийство и стихотворение». В 1818 году адмирал Шишков представил Александру I на утверждение новое начертание, в коем повторил мысль о вычищении и обогащении, высказанную в 1783 году Екатериной Романовной Дашковой, только сделал это в куда более витиеватой форме:
Главная должность Академии состоит в попечении об языке. Она приводит его в правила, вникает в состав его и свойства, раскрывает его богатство, показывает силу, краткость, высоту, ясность, благородство, сладкозвучие; устанавливает, определяет, разверзает, распространяет его; очищает от вводимых в его несвойственностей, хранит его чистоту, важность, глубокомыслие, и сими средствами полагает твердое основание словесности, красноречию, стихотворству, наукам, просвещению.
Вослед барону Корфу о сладкозвучии и глубокомыслии российского языка пеклась княгиня Дашкова, имевшая чисто французское воспитание, написавшая для потомков воспоминания на английском языке, которым, по утверждению Я. К. Грота, она владела лучше, нежели родным. Впрочем, в бутафорских мероприятиях по вычищению и обогащению она выступала, по современным понятиям, ассистентом режиссера, ибо роль постановщика с удовольствием возложила на свои плечи померанская немка София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, завезенная, как и ее супруг, Карл Петер Ульрих, в Россию, дабы княжить и владеть нами. Адмирал Шишков, свободно переводивший с иностранных языков, краснобайствовал перед Александром I и высшим светом, предпочитавшим говорить по-французски — дабы не выглядеть дураками друг перед другом, как сказал простодушно Ветромах в комедии Княжнина. Всех троих, Тредиаковского, Шишкова и Троцкого, объединяет уверенность, то ли искренняя, то ли наигранная, или, скорее всего, возникающая и нарастающая во время витийства на заданную тему, что можно волевыми усилиями или в приказном порядке, через правительственные постановления переделать язык, в чем-то укоротив его и сузив, в чем-то удлинив и расширив, и потом задать ему дальнейшее развитие по определенной колее, при этом надеть на него шоры наподобие тех, которые надевали лошадям, дабы он, язык, не шнырял взглядом по сторонам, и заткнуть ему уши, чтобы в них не влетали какие-либо несвойственности.
Шишков, используя отвлеченные существительные, приписывал языку то, чего язык сам по себе иметь никак не может: благородство, сладкозвучие, глубокомыслие, важность. Троцкий усмотрел в нем гибкость и чуткость: «Из революционных потрясений язык выйдет окрепшим, омоложенным, с повышенной гибкостью и чуткостью». Укрепить, омолодить или вычистить язык невозможно, как и придать ему гибкость, как и хранить его чистоту. Никому не удастся привести его в правила, как выразился Шишков, и все разговоры о пользе словесности являются пустопорожней болтовней. Время от времени власть вскидывается и объявляет новый этап борьбы за чистоту родной речи, но люди продолжают говорить и писать так, как говорили и писали, впадая то в пустословие, то в злословие, они предаются иногда славословию, кто-то прельщается иностранными словечками, а какая-то часть населения в общении и самовыражении всю жизнь обходится междометиями и сквернословием. Еще имеются штатные борцы за культуру речи, они за государственный счет в государственных учреждениях под вывеской чего-нибудь гуманитарного, культурологического и духовно-воспитательного, перемежая нудное многословие с высокопарными восклицаниями в стиле Шишкова, толкут годами ту же воду в той же ступе — им иначе нельзя, если им не толочь, создавая видимость полезной деятельности, казна, увидев бездеятельность, перестанет обеспечивать их деньгами.
(Окончание в следующем номере.)