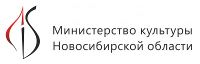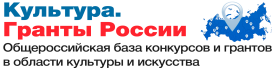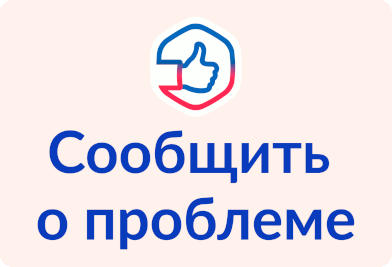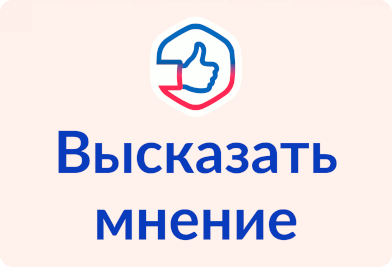Вы здесь
При мне никто не умрет
Ноябрь, областной центр
Михаил сидел у стола в кабинете Льва Семеновича, ссутулившись и свесив руки между колен. Взгляд его не отрывался от полированной пепельницы из сургучного цвета яшмы, которую заполняли железные канцелярские скрепки.
— Мне теперь работу менять?
В паузу, которая простерлась после вопроса, целиком поместился вчерашний вечер. Лицо Гены: мокрое, волосы прилипли ко лбу. На руке косой заборчик шрамов — зебра был Гена, зебра злостная, упорная и тупая. Всякий раз, наверное, вены режет, когда денег на дозу нет... Несло от него потом и страхом. Жгут накладывать было неудобно, еще и видно плохо — под потолком единственная слабая лампочка на шнуре. Гена, со своей стороны, делал все, что мог: выл, стонал, изгибался. Вера Сергеевна наклонилась к ним тоже, и хотела, и не знала, чем помочь, руки ходуном, кофта наизнанку, глаза — словно раны на смятом лице.
— Идите на улицу, фельдшера встречайте, — скомандовал Михаил. Надо было ее отвлечь, занять хотя бы видимостью дела.
Вот тут оно и случилось. Или не тут. Или раньше, а он только сейчас заметил. Перчатка лопнула, болтался лоскут, и рука была в крови.
Рука в крови. Рука, облитая алым, под лампочкой атласно блестящим.
Вера Сергеевна ушла встречать скорую, Гена замолчал наконец. Стало тихо. Михаил слышал, как свербит в лампочке вольфрамовая нить. И в тишине этой прозвучал острый презрительный тенорок: «Приплыл. Завтра пойдешь на прием к самому себе».
В окно кабинета вплывал слабый свет ноябрьского утра. Он имел тот оттенок свежести и беззащитности, который возможен лишь раз в году, в день, когда выпадает первый снег. Лицо Льва Семеновича с одной стороны озарялось этим свежим светом, а с другой его окатывал голубоватым холодом компьютерный монитор.
— Работу? Конечно, менять! Какой ты инфекционист? Ты на руки свои посмотри! Думаешь, спрятал, не вижу? Я чему вас учил? Отвечай, это вопрос!
Михаил положил руки на колени. Пробурчал, глядя в угол:
— «Любая царапина — входные ворота инфекции».
— Помнишь! — Тенорок профессора стал не просто острым — колючим. — Помнишь, а что творишь? Входные ворота! Тебя что, кошки драли?
Михаил поднял голову и спросил снова:
— Мне теперь работу менять?
Сентябрь, город Баженов
Батюшка, в хилой куртке поверх подрясника, дрожал всем телом и тоже был без зонта.
— Что ж вы такое творите-то, Михаил Ильич? На виду у всего города — призыв заниматься сексом!
Тьму наполнял ровный шум деревьев и душевой шум дождя.
— Это не призыв заниматься сексом, — деревянным голосом ответил Михаил, не глядя на священника. И зачем поперся через церковный парк, идиот... — Это призыв заниматься сексом в презервативе.
Ветви кустов впереди светились — в них прятался низкорослый фонарь. Листья бились и вздрагивали под золотыми струями: казалось, кусты пляшут на месте.
— Презерватив, вот именно... Ваша акция, уж простите, это какая-то пропаганда разврата!
— А по-вашему, что должно быть на баннере? Обручальные кольца?
— Обручальные кольца — прекрасная мысль! А? Михаил Ильич! Ведь прекрасная!
Пришлось ускорить шаг. Но отец Игорь не отставал — несся следом и кричал, отплевываясь от дождя:
— Даже слоган можно оставить тот же: «Соблазнов много — защита одна!»
Михаил поскользнулся на раскисшей тропинке и наверняка бы шмякнулся, но был подхвачен твердой рукой оппонента.
— Только что выявил одного — с кольцом! — выкрикнул, освобождаясь. — А беременные? Четырнадцать за прошлый год! Двенадцать за нынешний! Кольца у всех! Слово такое — «эпидемия» — слышали?
Отец Игорь взглянул прямо, блеснули стекла залитых водой очков.
— Так надо воспитывать молодежь! Верность, любовь, семья — вот чему надо учить. Не презервативам вашим! На Махатмы Ганди школа! Там дети ходят. А вы им — презерватив под нос!
Рванул ветер, вверху хрястнуло, затрещало. Коротко прошумев и подняв брызги грязи, перед спорящими шлепнулась огромная ветвь. Оба, не сговариваясь, наклонились, чтоб оттащить ее с тропинки.
...Когда он приехал сюда, была середина августа. На улицах продавали увесистые шершавые дыни и виноград. По черным липким гроздьям ползали ленивые осы. Грело солнце, горячо пахло хвоей. Каждый день после работы Михаил ходил новой дорогой. Бывают же такие города! Раз — и поставили дома посреди бора...
Сейчас, в конце сентября, этот бор был темным от непогоды, гудящим, мокрым. Недобрым.
Вновь выявленному Михаил назначил прийти в самом конце приема, чтобы поговорить без оглядки на время. Тот пришел на час раньше и терпеливо ждал перед кабинетом: галстук висит косо, пиджак помят, из рукавов выглядывают обшлага несвежей рубашки.
Еще месяц назад кабинет служил рядовой инфекционной палатой, поэтому обстановка оставалась почти домашней. За дверью душ, туалет; белая больничная ширма отгораживает обеденную зону, куда Михаил все собирался и забывал купить чайник. Вынесли отсюда только кровать — ее место у окна занял новый письменный стол с лампой на гнутой гофрированной ноге. Михаил протянул к лампе руку — включить: сгущался вечер, и по углам уже гуляли тени, — но его новый пациент глянул затравленно, и руку пришлось убрать. Ладно, побудем без света.
— За что? Нет, вы скажите, за что? Ведь один раз, один только! У нас был, знаете, корпоратив, и там женщина... Она, ну... Да если б я гуляка был, я бы в жизни ничем таким не заразился, вот где парадокс! Я бы готов был... у меня бы эти... ваши... как их... «соблазнов много — защита одна» были с собой!
Он то и дело приглаживал волосы, которые и без того льнули к маленькой голове, как намасленные, оправдывался, лез в объяснения и так старался, будто ждал, что доктор хлопнет себя по лбу, скажет: «Ах да, конечно!» — и отменит диагноз. Смотреть на это было невыносимо, и Михаил смотрел в окно. Там, естественно, тоже не показывали ничего хорошего. Грязь там показывали, лужи, мелкий поганый дождь. И черные сосны, которые, как вражье войско, подступали к самым стенам больницы.
— Я ж не хотел... Я не думал... А жена? Господи-и! — вдруг резко и тонко взвыл масленый.
В коридоре уборщица уже гремела ведром.
Михаил взял ручку, выписал направление на анализ.
— Кровь, — он покосился в карту пациента — убедиться, что правильно запомнил имя, — кровь, Альберт Кузьмич, будете сдавать регулярно. Наша задача — контролировать вирусную нагрузку.
Еще раз объяснил, что такое вирусная нагрузка, приподнялся, прощаясь, пожал холодную влажную руку. Человечек с нелепым именем Альберт Кузьмич опять пригладил волосы, выговорил:
— Я ведь не хотел... Я не думал... — и с этими словами пропал. Просочился за дверь, исчез в коридоре, оставив тошный запашок страха, вины, тесного шкафа, из которого был вынут его костюм.
Михаил щелкнул, наконец, выключателем лампы. В оконном стекле, которое немедленно сделалось глянцево-черным, появилось его отражение: скованная фигура, короткие волосы, лицо с провалами глаз.
В дверь просунулась уборщица:
— Долго вы еще тут? Я до ночи ждать не могу. У меня внуки!
За кованой церковной оградой простиралась лужа в оборке опавших листьев, кипевшая от дождя. Михаил поправил на плече лямку сумки-аптечки и двинулся по краю, стараясь не замочить ног — левый ботинок у него протекал, — прижимался к ограде, цепляясь за железные завитушки. Железо было скользкое, ледяное, пальцы сразу онемели.
Но вот, наконец, и улица. По асфальту идти стало легче, только вертелись под ногами сбитые шишки. Дождь обмельчал: теперь он уже не лил, а сеялся, мотаясь на ветру. Между черными стволами сосен светились окна домов.
А у «Провианта» жалась к стене эта бабка! Сидела на чем-то низком — стульчик, что ли, у нее там складной? — пряталась под нависающим козырьком. Михаил однажды увидел, как Вика, выскочив из дверей в своем форменном зеленом халатике, протягивает бабке батон и еще что-то, похожее на брусок сыра. И теперь у него в груди шевельнулось радостное и как бы родственное чувство к этой бабке.
Нащупал в кармане сторублевку, подошел, протянул — бабка подхватилась тут же, привстала, сунула ему что-то легкое, теплое... Живое.
— Удача твоя, сынок. Последний остался.
— Но я не... Э!
Бабка мигом отвернулась. Принялась собирать какие-то свои пожитки, что-то куда-то торопливо упихивать, бормоча:
— Последний, тьма такая. Никто брать не хотел — у, тьма-тьмущая... Боятся черных котов, что несчастья от них. Придумают тоже: от котов несчастья! Божьи твари в бедах ихних виноваты.
Божья тварь не то зевнула, не то мяукнула беззвучно, показав ряд мелких острых зубов. Бабка, уперев руку в поясницу, с усилием распрямилась. И вовсе не Викина это бабка, с чего он решил? Та была тощая, волосы клочковатые, седые, нос крючком. А эта плотная, уж точно не голодает, и одета чисто.
— Так что аккурат вовремя ты, сынок.
— Да я...
— Топить бы пришлось!
От этих ее слов горло свело спазмом. Перед глазами заколыхалась мутная стеклянистая масса, стало невозможно вдохнуть — а когда он совладал с собой, рядом никого уже не было. Стоял дурак дураком, держал котенка, чувствуя, как холодная сырость заползает в левый ботинок — промочил-таки! — а бабка уходила прочь по раздольной улице Ганди: приземистая фигура в ореоле электрического света и сверкающей водяной пыли.
***
В Баженове Михаилу выделили квартиру. Муниципалитет располагал собственным жилищным фондом и мог, с разрешения думы, распоряжаться им в определенных случаях. Например, если штат медсанчасти срочно требуется усилить молодым специалистом ввиду вспышки ВИЧ-инфекции, вызвавшей эпидемию и скандал чуть ли не на всю страну.
Старая обшарпанная однушка была обставлена случайной мебелью и отличалась отсутствием излишеств — таких, как шторка в ванной или люстра в комнате. Голая лампочка под потолком была яркости изуверской, так что Михаил привык обходиться торшером. Дернешь за шнурок — свет падает на немощное кресло с вылезающими нитями обивки, на журнальный столик: растрескавшийся лак, ненадежные ножки; на крашенный коричневой краской пол. А кровать уже пряталась в полутьме, только сползал по гнутому железу спинки слабый блик.
Котенок дрожал и, широко разевая пасть, мяукал, почти без звука, будто шепотом. Михаил снял свитер, постелил в угол. Наполнил бутылку из-под минералки горячей водой, обернул полотенцем. Недоверчиво обнюхав все это, котенок опять разразился шершавым мяуканьем.
На руках он успокаивался, прижмуривался и, кажется, засыпал. Однако любая попытка положить его рядом с теплой бутылкой кончалась тем, что он распахивал серые глазищи и начинал дрожать. Черный пух стоял дыбом на жидком тельце.
В конце концов Михаил потерял терпение.
— Так, зверь, давай-ка ты один побудешь. Мне все-таки на работу с утра.
Перетащил все хозяйство со свитером и бутылкой в кухню, оставил котенка, плотно прикрыл хлипкую дверь. Спать, спать... Он еще пристроил мокрый ботинок сохнуть под батареей, напихав в него скомканных газет, и, наконец, упал в кровать — завизжали, заныли пружины панцирной сетки.
Сразу же привязался старый мучительный сон. Вода, как жидкое стекло, колыхалась, сжимала, не давала дышать. Мутным соленым пятном маячило сквозь нее солнце. Надо — к нему...
***
Дождь, то усиливаясь, то затихая, шел всю ночь. А к утру перестал, оставив город мокрым и встрепанным, усеянным мелким сосновым мусором: хвоинки, ветки-кисточки, потемневшие от воды шишки — все это устилало асфальт, плавало и дергалось в лужах.
В инфекционном корпусе по-утреннему пахло хлоркой.
— Ведь грех сказать, Михаил Ильич: спокойна за него, только когда он в тюрьме. — Вера Сергеевна сидела возле стола, держа на коленях разбухшую сумку с отвислыми петлями ручек. Баюкала ее, оглаживала ей бока, словно любимой собаке. — Каждый день, каждый божий день на работу уйду, думаю — что еще натворит, что еще из дома унесет, там уж и нести-то нечего... А ведь такой хороший мальчик был, в школе-то, говорили все — Гена золото ведь у вас!
Она отвернулась, достала скомканный носовой платок, высморкалась тихонько.
— До чего дожили... И ведь что случись — даже обратиться не к кому, на скорой-то в тот раз как они ругались: зачем, кричат, опять к нам привезли, у нас дети, семьи...
Подалась вперед, навалившись на стол, глянула близко — белки глаз водянистые, в красных прожилках:
— А иногда... Грех, конечно, но ведь доведет, нет-нет да подумаешь: лучше б уж умер, чем так!
Михаил поднялся: надо накапать ей. Черт, от меня, кажется, несет кошачьей мочой... Прошел за ширму, налил в стакан воды из графина. Накапать, таблетки для Гены выдать и отпустить. Телефон свой напишу. И пусть уж она идет, с этой своей сумкой, как со старой покорной собакой.
Ноябрь, областной центр
Лев Семенович потянулся к пепельнице, вытащил оттуда скрепку и, вертя ее в пальцах, смотрел на своего бывшего студента. Похудел. Морда упрямая. Настороженный, будто ждет, что нападут из-за угла.
И ведь этот еще лучшим был на курсе! Учился остервенело. Говорили, везде и всюду ходит с аптечкой: жизни готов спасать. Невольно усмехнувшись, Лев Семенович отметил, что аптечка и сейчас при нем. В больницу — со своей аптечкой. Доктор. Герой. Сколько он проработал? Так, ординатура у меня... Потом воткнули его в этот Баженов... Всего три месяца, значит. Но как он там кинулся сразу во все стороны! — приемы вел, лекции старшеклассникам читал, с милицией какие-то дела... Лев Семенович поморщился: дела Михаила с милицией ему не нравились. На местном онлайн-форуме, вон, пишет чего-то... Слог, конечно, у него так себе. Неловко пишет, казенно.
Лев Семенович покосился на монитор компьютера, где была открыта вкладка odingorod.ru/hiv/: «...анализ крови не всегда показывает верную картину. Существует период серонегативного окна: время, когда заражение уже произошло и заболевание уже развивается в организме, но антитела к патогенам еще не выработались. Благодаря этому уже инфицированный человек может получать отрицательные результаты анализов. Обычно период серонегативного окна длится от одного до трех, реже — шести месяцев, поэтому после рискованного эпизода анализ нужно сдать повторно по истечении данного срока...»
Данного срока... Он разогнул скрепку, согнул снова.
Эх, если бы там не наркоман был! У них вирусная нагрузка обычно зашкаливает, где им помнить про таблетки-то... Доктор. Сидит вот, плечи к ушам тянет. Стыдно ему. Ему, поганцу, стыдно!
Скрепка в руках Льва Семеновича хрупнула и сломалась.
Октябрь, город Баженов
Капитан Калашников не глядя сунул окурок в пепельницу — смотрел он на Михаила. Разглядывал. Глаза капитана были маленькие, черные и круглые, без какого-либо выражения. Через нос тянулся шрам, рот сидел на лице как-то криво и сбоку, череп был обрит. Кирилл, стало быть, Петрович. Имелось и прозвище — Киллер.
— Можешь так и звать. Все зовут.
Кабинет Киллера в здании милиции представлял собой прокуренную каморку с решеткой на давно не мытом окне. На потолке гудела и вздрагивала люминесцентная лампа, заливала скудную обстановку мертвенным светом, не оставлявшим теней. Со стены смотрел канонизированный конторой Дзержинский: «Отсутствие у вас судимости — это не ваша заслуга, а наша недоработка».
— А че ты с аптечкой-то пришел? — Киллер задрал брови, разглядывая кожаную сумку с выдавленным на ней крестом. — Думаешь, я тут внезапно заболею?
Смех у него был неприятный, мокрый, похожий на бульканье. Дернув на себя ящик стола, он вытащил блок сигарет и отделил одну пачку.
— Значит, хочешь узнать, есть ли среди моей клиентуры спидоносцы...
— Это называется — люди, живущие с ВИЧ, — сдерживаясь, сказал Михаил. — Можно говорить — ЛЖВ.
Киллер вскрыл пачку и закурил. К застарелому запаху табака прибавилась свежая струя.
— От меня вот тоже требуют в отчетах писать, — он скорчил рожу, — «потребители инъекционных наркотиков»! Лажа. Потребитель — это человек, у которого хоть какая-то воля есть. А здесь все наоборот: это наркотики их потребляют. Называли бы вещи своими именами, насколько проще бы жить было...
Он глубоко затянулся, уставился в потолок и произнес глубокомысленно:
— Вранье — корень зла в этом мире.
По мнению черного котенка, корнем зла в этом мире был ботинок хозяина. А именно левый, подтекающий. Хозяин уничтожению зла почему-то сопротивлялся и раз даже крепко встряхнул спасителя мира за шкирку.
Извернувшись, скосив глаза и сдвинув уши, котенок азартно впился когтями в карающую длань. Да как впился-то! Михаил еле оторвал. Вытер кровь, сгреб котенка — маленького, худого, под черной шерстью легкие косточки, — прижал к груди, не давая больше царапаться, держал крепко, наглаживая и приговаривая:
— Борзый стал, да? Зве-ерь... Так, а это еще что? — Он подобрал с пола мелкий и острый, как иголка, молочный зуб. — Ну, все ясно. Вот почему ты на ботинок ополчился.
Они договорились, что зверь ботинок трогать все-таки не будет, даст ему просохнуть под батареей — Михаил, же, в свою очередь, выделит на растерзание один свой носок.
Принеся из кухни стакан с чаем, он опустился в скрипнувшее кресло, вытянул к батарее ноги — одну в носке и одну босую. Чай в стаканах любил. И чтоб крепкий, горячий. Наливаешь — поднимаются в кипящей струе взбаламученные чаинки. Сделал крупный глоток, на лбу выступили капли пота. Эх, хорошо... За окном шумел дождь, барабанил по жестяному карнизу. Там что-то ворочалось, шевелилось, задувало, временами срываясь на вой, и тогда котенок отвлекался от скатанного в бублик носка, который он гонял по полу — в подозрительной все-таки близости от ботинка, — поворачивал голову и настораживал уши.
Киллер по временам звонил и со своим смешком-бульканьем осведомлялся: «Миха? Есть клиент один интересный. Не хочешь попить его кровушки?» Такой звонок мог раздаться хоть среди ночи, да обычно среди ночи и раздавался — можно было не сомневаться, что «интересный клиент» сидит рядом, разговор слышит, и капитан Калашников косит на него страшным своим черным глазом, внушая, что вот придут сейчас пить его кровушку, и тогда-а... Душу вместе с кровью вытянут! Пока Михаил, подхватив чемодан-укладку, до милиции добирался, «клиент», надо думать, сообщал Киллеру много полезного. Морщась, он гнал от себя эти мысли — у Киллера свои дела, у него свои. Зато он обнаружил Гену. И остальных. Но каждый раз, доставая из укладки жгут, иглу, вакутейнер и видя Киллера, который с сигаретой в зубах за ним наблюдал, Михаил думал: вот у кого анализ-то надо бы взять в первую очередь. Понимая при этом прекрасно, что Киллер отказался бы. Причем не потратив ни слова, одним только взглядом да бровью поднятой отказался: что-то свое варится в этой бритой башке.
Руки чесались поскорее обуздать хворь, что точила, изнутри выгрызала маленький уральский город, бедный город, выросший посреди соснового бора. Все лучшее, молодое и упорное уезжало отсюда в областной центр и дальше, в столицу, — а оставшееся, вялое и равнодушное, отдавалось на произвол алкоголя или наркотиков. А шприц один, идет по кругу, катись-катись, яблочко, да на ком остановишься? Кому встретится, тому сбудется, сбудется — не минуется.
Это беда несла болезнь, одна беда несла другую, и потом они спорили, две беды: какая победит? какая добьет? И как ни старался Михаил, вдвоем беда с бедой были сильнее. Наркоманы на прием, конечно, не являлись, терапию не принимали — так и норовили, в общем, склеить ласты назло доктору.
Ноябрь, областной центр
Лев Семенович бросил обломки скрепки обратно в пепельницу. Выпрямился. Сказал твердо:
— Факт заражения не подтвержден. Так что будешь работать как миленький.
Зашарил на столе, вытащил какие-то листки из конверта.
— Кстати, о работе... Вот, полюбуйся.
И словно кто-то злобный сорвался с цепи, заорал в лицо из-за забора восклицательных знаков: «Все вы врете! Честных врачей не осталось!!! Деньги решают все!!! А скольких людей вы запугиваете, говорите, что у них ВИЧ? Этой болезни нет и не было!!! Вирус никто никогда не видел!!!!!!!!!»
Михаил поднял глаза:
— Ясно.
— Ясно ему, — проворчал профессор. — Двадцать пять лет — и все ясно... Мне вот восьмой десяток идет, мне ничего не ясно. Ведь это человек, Миша, женщина, мать! У дочки шестьдесят иммунных клеток. Шестьдесят! Ей ребенка надо спасать, а она меня письмами забрасывает.
— Как вы ей ответили?
— Никак, разумеется. — Профессор вздернул подбородок. — Я, дорогой мой, слишком стар, чтобы общаться с идиотами. По крайней мере, с незнакомыми идиотами... — Он бросил на Михаила острый взгляд. — Сообщил куда надо, ребенка отберем и будем лечить. А эта дама не мой пациент.
— Но ведь это неправильно. — Михаил выпрямился на стуле.
— Есть такие решения, коллега: неправильные, но единственно возможные.
Он забрал письмо и бросил в корзину для мусора.
— Я не могу помочь человеку, который меня об этом не просит, который моей помощи сопротивляется.
— Да ведь она эту чушь разносит! Она же сама как вирус, Лев Семеныч! Таких людей надо останавливать как-то, объяснять...
Лев Семенович откинулся на спинку стула, усмехнулся тихонько. Ишь, поганец! Ожил. Порозовел. Эх! Если б только там не наркоман был...
— Школьникам своим объясняй. А эти люди уже во всем себя убедили. Ты зачем в Баженов поехал? Вот этим и занимайся. А столкнешься со СПИД-диссидентом — не лезь.
Михаил подхватил аптечку, встал.
— А твой случай... Ты сам врач, что тебе объяснять? Анализ сдавай раз в месяц, на учете годик подержим и, даст бог, забудем, — здесь профессор отвел глаза, — забудем эту историю... С кровью, главное, вообще не работай — ни под каким видом.
Посмотрел на Михаила, проворчал:
— Ладно, ладно. Не обидеть хотел. Просто знаю я вас. Сидите там, в глуши, берегов не видите. По краю ведь ходишь с этим твоим Убоищем!
— Киллером...
— Я так и сказал.
И Лев Семенович поджал губы с видом человека, который ни разу в жизни не нарушил ни одного правила.
Ноябрь, город Баженов
Рейсовый автобус шел чуть больше часа, и в Баженов Михаил вернулся задолго до начала приема. Снег, конечно, уже растаял: под ногами теперь была жидкая грязь.
По дороге на работу он зашел в «Эльдорадо» и купил чайник.
Согласно инструкции, перед использованием надо было дважды вскипятить воду, каждый раз дожидаясь, пока гладкий металлический корпус остынет полностью. Михаил, в белом халате — надел его сразу, как пришел, — сидел, дожидался. За окном сосны качали головами под хмурым, с набрякшими облаками, небом.
Чайник уже вскипел вторично, когда в дверь постучали.
— Михаил Ильич, вы вчера расплатились, а продукты-то бросили.
Короткое, как вздох, шуршанье: на пол опустился пакет.
— Я домой забрала все, в холодильник поставила.
Михаил моргнул. Простое слово «спасибо», которое было бы уместно сказать сейчас Вике, на ум ему не пришло. Вместо этого он стал выбираться из-за стола. Вытягивал одну ногу, другую, затем оперся руками о столешницу, начал привставать — выбирался, выбирался и в конце концов преуспел.
— Вы так быстро убежали... Это вам кто позвонил? Думала сначала, что вернетесь, сложила все, ждала-ждала, а вас нет... — Она вздохнула и посмотрела себе под ноги. — Ну, пойду...
Но не пошла, стояла.
— Вы не на работе сегодня? — нашел, что спросить, Михаил.
— Выходной... Мы два через два работаем.
— Так не торопитесь! — Он подхватил пакет. — Давайте чаю попьем. Идите сюда, у меня тут стол...
— А вам это нормально — пить со мной чай?
— У меня прием только в три начнется. Нормально.
— Нет, я... ну, вы не брезгуете?
— Вика! — Имя вырвалось само, до сих пор он называл ее по имени только про себя, а здесь, в кабинете, конечно, «Виктория Владимировна», но сейчас она что-то сместила этим своим пакетом, то есть, конечно, его пакетом, — взяла и принесла, как будто он ей не просто доктор, а хороший знакомый, и, если б он еще не успел нацепить этот дурацкий халат...
— Я же рассказывал: ВИЧ-инфекция так не передается.
Да. Она по-другому передается. Например, ваши руки расцарапал ваш кот, а вы подорвались спасать суицидника, несясь впереди скорой помощи, и распластали перчатку.
— Лимон... вроде я покупал вчера лимон. — Он стал рыться в пакете.
— А кто это вам позвонил?
Михаил повернулся к ней с лимоном в руках. Глаза у Вики были карие, но очень яркие — в них будто отражалось солнце. И, повинуясь мелькнувшей неясной пока мысли, спросил:
— Скажите... А вы кому-нибудь говорили, что у вас ВИЧ? Маме? Подруге?
— Брату. — Она опустила ресницы. — Собираемся сходить с ним на кладбище, выбрать место.
Вот как. Интересно, гроб она тоже выберет? Может быть, и венки? А что — девушки любят шопинг... Она между тем уже ревела. Бросилась к нему и ревела, всхлипывала, бормотала бессвязно, что боится, что не хочет жить, нет, не всегда, конечно, но иногда такие мысли, что уж лучше самой, чем этот вечный страх, и страх, что узнают... Ну что вы, Вика, как узнают, кто, это же врачебная тайна! А даже если узнают — никто вас не выгонит, не имеют права, это только врачей выгоняют, да и то не всех, а только тех, кто... с кровью работает, в общем. Вы где живете, Михаил Ильич? Они найдут себе право. Да никто и не будет меня из-за болезни выгонять, скажут — проворовалась... да если и не уволят! Жизни никакой не дадут. У нас вот жил один тоже в соседнем подъезде, так ему дверь подожгли! Вика, ну что вы, Вика...
Неловко, одной рукой, будто сроду никого не обнимал, Михаил похлопал ее между лопаток.
***
Зверь сидел в дверях ванной и, поводя ушами, наблюдал, как хозяин загружает в машинку белье. Белья было мало: из белого у него оказалась только одна рубашка, да и ту с последней стирки он не надевал, поэтому к халату удалось присовокупить только простыню и полотенце.
Глупо, конечно. Кто в больничной прачечной станет разглядывать, какие там на его халате пятна: не от туши ли для ресниц, случайно? И вообще вся ситуация была глупой. Неправильной, вывихнутой какой-то! Да, он слышал, врачи нередко женятся на пациентках — где ж им еще знакомиться. А главное — когда? Но... Но. Вызвать симпатию, находясь в позиции силы... практически власти над другим человеком...
«Нашел о чем беспокоиться, — ехидно утешил его острый тенорок. — Вот сдашь через месяц анализ крови — там и кончится твоя власть...»
Михаил потер грудь, прогоняя внезапную боль, и нажал кнопку. Старенькая машинка затарахтела, набирая воду.
Декабрь
На ночь во всем отделении оставалось не больше десяти человек, и Киллер знал, что никто из них к нему не зайдет. Докурив и загасив окурок, он не оставил его, как обычно, в пепельнице, а, завернув в бумажку, сунул в карман. Встал, открыл форточку.
А докторишка-то! — анализ предложил сдать. Вообще чувак без понятия, из кого можно качать кровь, а из кого нет. День борьбы у них, видишь ли, со СПИДом. Ну не дебилы? День борьбы. День! Чуваки, я вам секрет открою, вся жизнь — борьба.
В белом халате ходит. Архангел, мать его, Мих-хаил. Лечит кого ни попадя. Вот на хрена он нариков лечит? Спросил его: «На хрена ты нариков лечишь, архангел?» Распсиховался. «Мы, говорит, врачи, наше дело — лечить, а разбирать, кто он такой, — не наше дело». Врачи! От слова «врать». Ну вылечит он какого-нибудь торчиллу — дальше что? Тот ведь размножаться будет, гены свои гнилые через поколения понесет. И во что мы превратимся лет через тыщу? Не-ет, выживать должен сильнейший. Всегда так было. А эта ихняя медицина только гробит генофонд человечества.
Еще и проект наш решил прикрыть. Не догоняет! Не догоняет архангел. Здесь капитан Калашников всегда решал, что и когда прикрывать. Можно ведь, если понадобится, доказать, что этого его СПИДа не существует. Нет никакого СПИДа — и все, и лечить никого не нужно, кха-ха... А доказать — не фиг делать. Если с умом — так вообще любую идею можно протащить. Как два пальца об асфальт. Любую! Даже если кто собрался людей жрать. Да хоть мать родную. Дожил до тридцати лет — сожри мать...
Киллер вытащил еще одну подозрительного вида сигарету, закурил и стал смотреть в потолок.
Так-то хорошо, что этот СПИД всякую шваль гасит. Вшивота вымрет — в нормальном мире жить будем. Среди нормальных людей.
...В этот вечер на улицах Баженова перестали гореть фонари. Они погасли ближе к полуночи, и сначала тьму еще рассеивали окна домов, а потом и они, одно за другим, погасли. Исчез Баженов, угрюмый город, скрылся во мраке. Только шумели невидимые теперь сосны.
***
Декабрь выдался холодный, бесснежный. Голая земля сжалась, скукожилась, зачерствела, как высохшая горбушка черного хлеба.
Тощая бабка с крючковатым носом и седыми патлами, выбивавшимися из-под платка, волочила пустые санки. Полозья скребли по сухому асфальту, звук отдавался в больной после вчерашнего голове. Бабку звали Варварушка — это была известная баженовская побирушка.
На толчки и накаты внутри собственного черепа Варварушка внимания не обращала, давно научившись переносить боль как что-то от себя отдельное. То маленькое, упорное, чрезвычайно энергичное нечто, которое она могла бы назвать словом «душа», не страдало от боли. Варварушка дважды попадала под машину, перенесла три операции. Перед третьей, когда взяли анализ крови, сказали про ВИЧ. Шут его знает, где и подхватила. Уж как только доктор молоденький ни старался, так ничего и не вызнал.
Варварушка стеснительно хмыкнула. На прием к доктору она ходила аккуратно — каждый месяц. Ей нравилось сидеть в чистом месте, говорить с кем-то внимательным, тоже чистым. Таблетки он ей дает. Она ничего, принимает. Когда вспомнит, конечно. А главное, посидеть хорошо, отдохнуть от всей своей жизни. Ее ведь и собака кусала! Вот, доктору-то рассказать, как другой раз пойду, так уж он слушает хорошо... И клещ тоже кусал. Даже сыночек родной — было, было! — по голове приложил сковородкой. Вроде как обиду хотел причинить, да как на него обижаться? Каждый человек свое живет, каждый свою коробочку несет, и теснит его эта коробочка, и давит...
Что такое «коробочка», Варварушка, спроси ее, объяснить бы не сумела. Она просто видела всех людей будто внутри стенок. У одних толстые стенки, у других совсем хиленькие, просвечивают. Кому-то они побольше простору дают там, внутри, а кого-то аж под ребра подпирают, как вон доктора. У него уж и не коробочка даже, а будто латы. Ходит: лязг-лязг... Прямо гнет его к земле сбруя эта. Да как он еще людей-то лечит! Как можно людей лечить, когда самому не вздохнуть?
Варварушка заморгала и прищурилась: что это, ровно как светлячки впереди мигают? Точно. Дорожка целая светлячков. И приближаются будто.
Цепь огоньков движется по улице. Вспыхивают фонарики, нежно горят свечи, поставленные в банки для защиты от ветра, — люди идут колонной, переговариваясь, смеясь. Цокают каблуки женских сапожек, глухо стукают мужские ботинки, слышатся выкрики:
— Будущее России — за свечными заводами!
— Наш город — уютный и чистый. Но нам не видно!
Встречные машины гудят, тормозя. Встречные люди спрашивают:
— Кто вы? Куда идете?
— Нам не видно! — Смех, дружный хор голосов. Но потом кто-то все-таки объясняет:
— Это флешмоб такой. Присоединяйтесь!
— Ну а что, правда, света уже три недели нет!
И кто-то лезет в пакет за еще одной свечкой, а кто-то зажигает ее, ставит в банку — идет, идет колонна, удлиняется на ходу.
Впереди всех — высокий худой парень с фонариком. Кудри гуляют без шапки: то встанут дыбом, то упадут на лоб. Остановившись возле рекламного баннера, он пропускает мимо себя людей, ощупывая их лица карманным лучом. Прохожие щурятся, закрываются руками.
— Ну Птица!
— Петька, уйди!
— С дуба рухнул?
Луч упирается в целующуюся пару. Смущенный смех, испуганные глаза, девушка прячет лицо на плече парня. Тот обнимает ее, ухмыляется, глядит бессмысленно.
— Продолжайте, не стесняйтесь, — говорит им Петр по прозвищу Птица, луч, однако, не отводя.
В другой раз ему везет меньше: в луче что-то сморщенное, лохматое, нос крючком, водянистые глазки, — на Петра-Птицу валится навозная брань. Луч вздрагивает, под общий хохот выпускает ядовитую добычу.
Потом в пятне света появляется молодой мужчина с напряженным лицом. Хмурится, щурится, поправляет ремень аптечки, пытается — ладонь козырьком — разглядеть того, кто держит фонарик.
— Ого! — удивляется Птица. — А вы, случайно, не Михаил Волков? Очень приятно. Давно хотел с вами познакомиться.
В колонне тем временем раздается громкое и раздельное, как призыв речевки:
— Есть ли совесть у мэра?
И — хором — отзыв:
— Нам не видно!
— Спасибо вам, кстати. — Птица взмахивает фонариком. — Вы с отцом Игорем своими спорами оживляете мне трафик. Я про форум, — поясняет он. — Ой, я же не представился. Петр Зяблицев. Простите, как-то привык, что в этом городе меня все знают. Все-таки владелец единственной приличной онлайн-площадки для дискуссий... Так вот насчет дискуссий. Простите, Михаил, но батюшка вас уделал.
Луч фонарика уходит вверх, к баннеру — там вместо слов про соблазны и защиту теперь сияют кресты и купола: «Покровскому храму — пять лет».
— Есть ли жизнь на Марсе? — раздается из колонны.
Хохот:
— Нам не видно!
— Только вы давно уже на форум не заходили. Имейте в виду, я-то вашу тему все-таки фильтрую, чтоб совсем уж бред не несли. Но они в ВК переметнулись.
Птица достает айфон.
Это не похоже на письмо, которое Михаил читал у Льва Семеновича. Автор пишет уверенно и насмешливо. Авторитетно. «СПИД! Нет никакого СПИДа. И не было никогда. Он только врачам нужен, чтоб на лечении наживаться. Вот эти таблетки, которыми наш герой в белом халате людей пичкает, — знаете, сколько они стоят? Поинтересуйтесь».
Что-то колючее и мелкое, как соль, начинает сеяться сверху. В пять минут всю сухую горбушку земли засыпает солью.
Январь
— Сыночка... Хороший мой, маленький... Как же так... Мы же и лечились с тобой...
Губы у Веры Сергеевны дрожали, и голос дрожал, а руки гладили мертвый лоб, щеки, волосы — как будто были сами по себе. Руки — белые птицы.
Гена лежал в гробу в черном костюме и белой рубашке. Строгий, красивый: смерть как будто умыла его и ото всего отряхнула. Михаил прижал к боку сумку-аптечку. Что ж ты жить таким не умел, каким сейчас в гробу лежишь...
После попытки самоубийства Вера Сергеевна отправила Гену в реабилитационный центр «Остров». Адрес дал отец Игорь. Работа, молитвы, никаких наркотиков. Через два месяца приехал повидаться, посидел немного дома и ушел к друзьям. А там — табачный дым, мутный разговор:
— Что, есть где взять?
— Один источник есть. И даже в долг поверит.
— Если в долг верит, точно сдаст.
Смешок:
— Этот не сдаст.
Опять смешок:
— Сто пудов, ему просто незачем.
— Да что за источник такой?
— Лучше тебе не знать. Как он говорит: «Меньше знаешь — яму не копаешь».
По углам гроба горят, потрескивают тонкие свечи. В руках собравшихся тоже свечи, светло вокруг от их дрожащих огоньков. К стенам церкви жмутся старушки. Всегда тут старушки — вечные привратницы в туго повязанных платках. Привыкают к смерти, знают — для них она. Для них сейчас пахнет ладаном и горячим воском.
Но иногда что-то идет не так, и тогда у смерти другой запах — летней пыли и нагретой травы. Убитая тропинка, листья подорожника... Блеск реки... Река ослепляла. А солнце — нет, солнце было лишь мутным соленым пятном, и горло драла злая вода-убийца. Он волок Лешку к берегу, волок, стараясь, чтобы он не бился о камни. Острые, они больно впивались в ступни. И поздно было.
Ничего не было поздно! Прекардиальный удар! Искусственное дыхание!
А ведь я, пожалуй, молился тогда, с удивлением понял Михаил. Это ведь молитва была: лишь бы при мне больше не умирал никто... только бы при мне больше не умирал никто... Никто больше не умрет при мне. Я им не дам!
Идиот. Стал бы учителем физкультуры, что ли, если хотел, чтобы при мне не умирал никто. А если уж в мед, как дебил, поперся, так стал бы патологоанатомом, что ли, если хотел, чтобы при мне не умирал никто...
Гулко наполняет воздух плавный баритон отца Игоря. Священник в чем-то белом и золотом, высокий убор покрывает голову, в стеклах очков огоньки свечей стоят неподвижно. Странно: говорит он совсем другим голосом, не таким, которым сейчас поет. Лицо не выражает скорби об ушедшем. Ничего оно не выражает, лицо это. Да и скорбят ли они, Божьи люди? Ведь человек, по вере их, переходит в жизнь вечную, идеже несть ни горести, ни печали.
Гудел баритон, гудел, читал протяжно — или пел? — нет, читал все же.
...прости ему прегрешения вольные и невольные...
...схорони в месте злачне, в месте покойне...
...в блаженном успении вечный покой подаждь...
Под звуки этого голоса исчез Михаил Ильич, врач-инфекционист. Тот, кто минуту назад был молодым мужчиной с напряженным лицом, стоял у дверей и прижимал к боку сумку-аптечку, — исчез и смотрел теперь глазами женщины, сидевшей у длинной открытой коробки, в которой лежал кто-то с бумажным венчиком на каменном гладком лбу. И этим, с венчиком, был он тоже, и тесно было сердцу: так, будто вошел ты в свой дом, а дом только что обокрали. Еще он был ярким жаром, державшимся за конец нити, мог все здесь пожрать, уничтожить, но лишь дрожал тихонько в ложе из горячего воска, а ложе плескалось и жило, утекало вниз по чуть-чуть, по капле — и каждой каплей тоже был он.
Кладбище уже совсем в лесу, глубоко. Поверх снега насыпались ржавые иглы сосен. У могилы стоит влажный кисловатый дух: вот так она пахнет, мать сыра земля, когда со скриплым звуком мелких камешков, царапающих железо, лопатой отваливают пласт, начиная яму. Если копать дальше, глубже, там уже глина, рыже-бурая, плотная, и у нее другой запах, мастеровой, бодрый. На дне ямы мутная, с веточками, вода — качается в этой воде упавшая шишка. В воду и опускают гроб: плыви, лодочка... И плывет.
Михаил двинулся прочь, проваливаясь в снег, натыкаясь на железные оградки, и никак не мог выйти на дорогу, все путался меж могил, а могилы накопаны тесно, и оградки стоят впритык — тонкие прутья, острые пики. Одна пика уцепила за ремень аптечки и держит, не пускает — Михаил и понять не понимает, что его держит, пытается пойти, не может, снова пытается, и вот уже тихо трещат лопающиеся нити.
— Давайте помогу, — сказали рядом.
Повернулся — и в тот же миг будто солнечный луч протолкался сквозь набрякшие облака, отразился в глазах стоявшей перед ним девушки.
— Вика...
Она потянулась отцепить от ограды ремень аптечки.
***
Прямо с утра позвонил Марат:
— Собирайся, через час заеду!
Молния на сапоге закусила колготки, а они новые, только вчера купила, — жалко до слез.
— Не реви! Это я реветь буду, когда ты... Тебе-то чего реветь?
Минут через двадцать были на месте: утопают в рыхлом снегу ее сапоги, его берцы.
— Смотри-смотри, — Вика тормозит брата за рукав, — это же этот, который взорвался-то в позатом году, помнишь? На газовом баллоне.
Марат нахмурился.
— Ну с женой поругались они! И он самоубийством покончил!
— Дак а чё, он помер, что ли? Его ж в реанимацию увезли!
— Ну да! А там он помер!
— Да не помер.
— Помер, говорю — на могилу-то посмотри.
Марат посмотрел на могилу.
— Во дебил. Если б я каждый раз дом взрывал, когда с Анькой посремся, весь город давно в руинах жил бы... Да не его это могила, чё ты мне говоришь! Он и с женой потом помирился, Анькина мать — соседка ихняя, ну!
— Да ты что? А чья это могила тогда?
Но Марат уже смотрел в другую сторону.
— А вон, гляди, этот...— Он покосился на сестру. — У которого ВИЧ-то был...
— Да он и не от него умер! — Вика поджала губы. — Его в гараже бетонной плитой придавило!
— Правильно придавило. Нечего жить, других заражать.
Вика вздрогнула, поглядела на Марата, развернулась и побежала.
— Стой! — Марат опомнился, закричал вслед: — Я ж не про тебя! Не про тебя, стой, Вишня!
Вика не слушала, убегала. Марат насупился. Буркнул себе под нос:
— Сама же говоришь, не от него помер... Его, может, вообще нет, вашего СПИДа.
Он сдвинул брови. А ведь точно! Что-то такое попадалось недавно в соцсетях. Ну-ка... Достал из кармана мобильник.
Налетел ветер. Снежный ком, сорвавшись с ветки, почти задел плечо бегущей девушки, упал, рассыпался, ударившись оземь.
Нет, у нее все было нормально! И побочек от таблеток почти никаких, даже вначале. Да, заморочно принимать по часам, но это быстро стало привычным — как зубы почистить. И все-таки иногда накрывало: почему я должна! Никто не должен, а я должна! Особенно если вдруг что плохое или денег не хватило до зарплаты. Тогда и без того тяжело, а тут еще и это. Таблетки пей, кровь сдавай, следи за тем, что ешь, держи себя в форме...
Нет, болезнь принесла ей не только горе, было бы нечестно говорить так. Во-первых, все стало легко. Нерешительность ушла, тревожность исчезла — ей ли бояться теперь всякой ерунды? Вот Михаил Ильич убежал тогда из магазина, покупки бросил, так раньше она бы вся измучилась: что делать? На работу ему звонить? Оформлять возврат, расставлять покупки обратно по полкам? А тут взяла и принесла, делов-то. Человек занятой, видно же, как он выматывается на работе.
А еще она стала жить осознаннее и как-то, что ли, подробнее. Научилась дорожить маленькими радостями. Оказалось, что их ни беда не отнимет, ни страх. Они, маленькие-то, сами по себе! Ресницы накрасить. Купить к весне туфли на тоненьких каблуках... Окружающее стала видеть отчетливо, ясно, как только дети умеют, они ведь ближе к предметам, все вокруг большое для них. Замечала то, что не замечала раньше. Прожилки на листе клена — на руках старых людей такие же прожилки. Иногда она этих стариков ненавидела. Столько времени прожили, и еще ноют чего-то!
Вика была убеждена, что сама до старости не доживет. И Варварушке выносила из магазина еду с чувством, похожим на гордость: смотри, я несчастнее, чем ты, а все-таки помогаю!
Она бежала, потом шла, постепенно успокаиваясь, пока не наткнулась на доктора, который пытался сняться с пики могильной оградки.
— Ремень надорвали... Ничего. Легко починить.
Михаил глядел на нее: яркие глаза, розовые от холода щеки, прядь волос в морозном инее.
— Вика... Вы как здесь?
— Я с братом. Мы... ну... — Она посмотрела в сторону.
Да что ж такое! Сколько можно говорить: ВИЧ-инфекция на продолжительность жизни не влияет! Принимай терапию и живи сколько хочешь! Детей здоровых рожай! Захотелось схватить ее за плечи, встряхнуть как следует, дуру такую, дурищу, а Вика стояла, опустив голову, и будто чего-то ждала; он уже шагнул к ней — но тут рядом оказался плотный низкорослый мужик. Взгляд у него был тяжелый, словно кастет.
— Слышь, ты! Тебе чё от нее надо?
Крепко взял Вику за руку, будто маленькую:
— Набегалась? Пошли.
— Марат! — сконфуженно шепнула Вика. — Это же врач, я тебе говорила...
— Врач? — Марат прищурился. — Слышь ты, врач! Чтоб я тебя рядом с ней не видел. И никаких твоих таблеток ублюдских она пить не будет, понял? Травите только народ. Ладно те, бараны, но за сестру я тебе... Идем, Вишня.
И он увел ее, твердо ступая, глубоко проваливаясь берцами в снег.
Михаил стоял, разглядывал порванный ремень аптечки. Гудели сосны, все вокруг двигалось, шевелилось. Валились с веток слежавшиеся снежные комья. Кто-то безжалостный надорвал этот мир, и теперь он трещал, полз по швам, обнажая изнанку, где остро пахнет травой и солнце весело горячит землю. Солнце — слепящий шар. Переливается по яркому, синему, налитому. Мишка прыгает по тропинке, убитой, твердой, но все же для босых ног — бархатистой. В теле легкость такая, такая! Вот и кости твои уже полые, птичьи, вот уже — вот-вот! — оперятся лопатки, и ты — р-раз! пор-рх! — и взлетишь: выше кустов, выше леса, до этого яркого, синего, налитого — до неба! Там, где самолет пропахал белую рыхлую борозду. Что он видит, летчик, оттуда, сверху? Лес видит! И луг с ромашками — луг как одеяло для него! Речку видит — серебряную, вон как сверкает! Выстреливает речка искрами ему прямо в глаз! А меня — видит? Лешку видит? Мишка оборачивается посмотреть на друга — как он там, далеко заплыл? А он...
Сначала брызги, потом упругая толщина — жидкое стекло. Оно держит, не пускает; а грудь режет, и горло дерет, солнце превратилось в мутное соленое пятно где-то за этой толщей. Надо — к нему...
Февраль
Зверь, как обычно, вышел провожать. Мурчал и терся башкой о ногу. Обычно Михаил наклонялся, чесал его за ухом, шутил: «Ты мне дорогу еще перейди!» Но сейчас ничего не сказал. Повесил через плечо сумку-аптечку с кое-как заштопанным ремнем и закрыл за собой дверь.
На улице сразу ударило, ослепило солнце, и снег поддержал ярый налет — грянул снизу мириадами граней. Под ногами он захрустел, точно крепким яблочком.
Горели фонари. Бледно, почти незаметно. Михаил удивился было — зачем фонари днем? — но тут же понял: включили проверить, все ли в порядке, не ночью же это делать. Наконец-то. Два месяца света на улицах не было.
Возле Дворца культуры сколочен деревянный помост, на нем крутятся, бьют каблуками девчонки: в желтых и зеленых, синих и красных сарафанах поверх пуховиков. Гремит музыка. Рядом с помостом — чучело в три человеческих роста. Народ толпится у палаток, где разливают чай и медовуху, где дымные демоны в белых заломленных колпаках раздают шампуры, унизанные горячими сочными кусками. Пахнет костром. Дергаются и трепещут на ветру гроздья воздушных шаров, трутся друг об друга тугими боками.
На краю площади — старухи с рукоделием на продажу. У одной очки на носу, другая, тучная, вытянула вперед негнущуюся ногу. Тут же затесалась Варварушка. Перед ней на санках расстелена связанная крючком ажурная салфетка, пожелтевшая с одного бока.
— А это что за хобоза на колесах? — Тучная кивает на фургон с дверцей в боку и ведущей к ней лесенкой.
— Где? — Маленькая старушка в пуховом платке вертит головой.
— Возле магазина, глаза разуй. Да не туда смотришь, ворона!
— И смотреть не буду! Место наше заняли, где прошлый год сидели. Там народу-то больше ходит!
— А че они там делают? Крест, глянь вон, красный, как на скорой помощи?
— Кровь берут. И сразу скажут, спидозный ты или нет.
Старухи ахнули и заголосили.
— С ума посходили!
— Да кто это придумал вообще?
— Ведь праздник!
— Масленица!
Варварушка навострила уши. Кровь берут? Так это сходить ведь надо? Доктор-то молоденький дает ведь таблетки-то. Так, может, помогли? Может, вылечилась уже?
Рядом с фургоном бродил Михаил. Мотался туда-сюда, постукивая ногой об ногу, то и дело поправляя на плече ремень аптечки. Мороз залезал в рукава, подбирался к груди, леденил сердце. Уходили от него люди, снимались с учета. «Альберт Кузьмич, без терапии ваше состояние будет ухудшаться». — «Знаю я... Это только так, чтоб вам разбогатеть...» — «Да на чем я богатею?» — «А на лекарствах...» — «Не вы же платите за лекарства! Государство платит за вас. Оно бы не позволило себя обмануть». — «Знаю я...» Уходили, бросали лечиться, прекращали сдавать анализы. Кому нужен доктор, кто захочет его слушать, ведь он предлагает ужасное: труд ради здоровья. Мало мы, что ли, ради денег трудимся?
— Блины любите? — орал с помоста усатый мужик в костюме скомороха. — Объявляется конкурс на лучший аппетит!
Откуда ни возьмись вырос Птица — куртка нараспашку, из-под нее видна рубаха в синюю клетку. Пожал руку.
— Я смотрю, у тебя тут желающих сдать анализ прямо толпа...
Михаил скривился.
— Ладно, пойду, повышу тебе показатели, так уж и быть. — И Птица полез, ухмыляясь, в фургончик.
Блины съели, опять выскочил скоморох:
— Подходи, честной народ! Новый конкурс у ворот! Покажем и чужим и нашим силушку богатырскую!
На помост начали заскакивать мужики — все как на подбор кряжистые и низкорослые. Скоморох раздал им медицинские перчатки.
— По моему сигналу! Дуем — пока не лопнет!
И началось. Выпученные глаза, надутые щеки. Народ теснится к помосту, кричит, за кого-то болеет... Хлоп! — одна перчатка лопнула, взлетел общий вопль. За ней еще: хлоп!
Михаил ссутулился, сунул руки в карманы.
И тут увидел Киллера.
Киллер стоял у стойки с медовухой, принимал из рук продавца высокий пластиковый стакан. Он тоже заметил Михаила. Сдул со стакана пену, не спеша подошел.
— Ну что, архангел? Я слышал, у тебя работы уменьшилось?
Он прямо светился самодовольством.
У Михаила отяжелели руки и ноги, как у пловца, вылезшего из воды. И, видимо, лицо изменилось, потому что Киллер, ухмыльнувшись, отметил:
— Ну, слава богу, допер.
Перед глазами потемнело, воздух сгустился в мутную, стеклянистую массу.
— Почему... — Михаил усилием воли протолкнул густой воздух в легкие, — почему ты это делаешь?
Лицо Киллера лоснилось на солнце, как масленый блин.
— Почему пиво пью?
Не торопясь, он глотнул из стакана и выбрался из толпы на дорожку, которая огибала Дворец культуры. Михаил дернулся за ним.
За Дворцом простирался заснеженный парк. Посреди него в деревянной беседке собрались победители перчаток. Передавали по кругу бутыль с чем-то мутным, белесым.
— Моих мотивов, Миха, — дружелюбно сказал Киллер, — тебе не понять. И вообще. У тебя свои дела, у меня свои. Меньше знаешь — яму не копаешь.
— Но люди перестают лечиться!
— Возможно.
— Они же умрут.
— Возможно.
— То есть тебе их не жалко.
— Естественный отбор, — пожал плечами Киллер, допил свою медовуху.
— Но ведь у каждого есть кто-то близкий! Ты представляешь, каково это для матери — сына потерять? У тебя самого — мать есть?
Киллер с хрустом смял пустой стакан, бросил в урну. Лицо его теперь казалось белой, вырезанной из бумаги маской, в которой чернели, будто круглые дыры, глаза. Открылся рот — еще одна черная дыра. Ответ оттуда выпал тяжелый, как камень:
— Нет.
Поднялся внезапный грай — с деревьев взмыла воронья стая. Взмыла, запятнала небо черными кляксами.
— Что, не можешь меня переиграть, архангел? Ни хрена ты не можешь. Иди домой, халат стирай.
Все стало расплывчатым, мутным. Отчетливой была только эта рожа. Круглые глазки, шрам через нос.
Аптечка упала на снег. Солнце лопнуло, залило весь мир невыносимым светом.
И сразу кто-то заорал из беседки:
— Э! Киллера убивают!
***
В кафе Дворца культуры было пусто. Михаил сидел за столиком у окна, черпал остывший суп. Ногу жгло. Пусть жжет, нормально. Края раны он обработал антисептиком, наложил тампон — бинтовать не стал, зафиксировал пластырем: крупные сосуды, к счастью, оказались не повреждены. Вот она и пригодилась, аптечка... Medice, cura te ipsum1.
К столику подошел Птица. Присвистнул:
— Вроде час назад виделись... Ничего себе тебя жизнь помотала за это время.
Михаил молча убрал аптечку со свободного стула. Птица уселся.
— Первый раз вижу, чтоб два фингала. В переносицу, что ли, засветили?
Если бы не набежали эти, из беседки!
Главное во время драки, он знал, — не упасть. Запинают, переломают ребра. И он не падал. Даже тогда не упал, когда что-то ударило в ногу.
Сначала, как сквозь подушку, услышал голос Киллера: «Сука, сесть хочешь? Нож мне сюда, живо!» А потом почувствовал, что по бедру течет теплое, что намокла и прилипла к телу штанина.
На этом все и кончилось. Беседочные растворились в солнечном свете — поглотив их, черных, встрепанных, протрезвевших, солнце сделалось совсем уж невыносимо ярким, — а Киллер подобрал аптечку, и они вдвоем, с запасного хода пройдя во Дворец культуры, вошли в обширный, увешанный зеркалами туалет. Там Киллер встал у двери и следил, чтоб никто не зашел, пока Михаил производил все манипуляции.
— Скажи спасибо, что этот дебилоид перо достал. А то присел бы ты у меня за нападение на сотрудника органов.
Подошла официантка — полноватая девушка с густыми светлыми волосами.
— Так... супчик такой же, как у моего друга, — сказал ей Птица. — Если даже его к жизни вернул, значит, реально крутой. Винегрет. И зеленый чай.
Проводив девушку взглядом, развалился на стуле.
— Ну что, как я слышал, лаборантам аж расходников не хватило. Ты же знаешь, кого благодарить, да? — Он слегка выпятил грудь. — Когда я пошел кровь сдавать, форумчане решили, что это очередной флешмоб. Можешь, если хочешь, оплатить мой скромный обед.
Михаил ел суп. Птица, конечно, вовремя. Только это напрасно все. Ну выявится еще нескольких заболевших, ну поставит он их на учет. А потом всех уведет Киллер.
— И ведь так страшно, оказывается! — Птица взъерошил свои и без того дыбом стоящие кудри. — Вот я вроде бы не в зоне риска. — Он похлопал по нагрудному карману, процитировал: — «Соблазнов много — защита одна!» И все-таки волновался, пока не сказали, что результат отрицательный.
Скребнув ложкой, Михаил зачерпнул остатки супа со дна. Через две недели тоже кровь сдавать. Он прислушался к себе, ища признаки волнения. Нет, никаких. Да и чего волноваться, почти четыре месяца прошло. Вон даже Лев Семенович повеселел... Что ж. По крайней мере, работу я сохранил. Работу...
— Работа у тебя прикольная! — Официантка вернулась с подносом, и Птица отодвинулся, чтоб не мешать ей расставлять тарелки. — Скажи, а как ты вообще решил стать врачом? С детства?
Ничего не ответив, Михаил придвинул к себе суп, стал хлебать. Ч-черт... горячий.
Берега все не было. Плясал берег далеко, издевался. Он волок Лешку, волок, шлепая по мелкой воде, и упал два раза, и уже все равно было, что Лешка чем-то там бьется, главное было — доволочь.
И вот Лешка лежит на мелкой сырой гальке. Не шевелится. Шутит, может, разыгрывает меня?
В ушах вода, и голоса слышатся смутно.
— Что ж он друга не откачал?
— Да как он мог, дети ж совсем...
— Купаться одни бегают — значит, не дети. Даже через пять минут можно было спасти.
И непонятные слова: «прекардиальный удар».
Птица глядел, склонив голову. Потом сказал вежливо:
— Ты, Миша, можешь и дальше есть из моей тарелки.
На площади торговцы уже сворачивали палатки. От догорающего чучела Масленицы валил густой дым. Праздничный красный шар, оторвавшись от связки, полетел ввысь, но не долетел до неба, зацепился за провод, замер на привязи, маленький, одинокий, а потом забился, задергался под налетевшим ветром.
Март
В Баженов пришла весна. Орали — граяли — по утрам вороны. Они оккупировали каждый островок бора, и когда забредал туда прохожий — грай возрастал многократно. Вороны ждали птенцов, были агрессивны, иногда набрасывались на людей.
По ночам еще морозило, но днем пригревало, и тогда пахло, как в незатопленной бане: деревом и сыростью. Снег оставался только у подъездов на газонах с вылинявшей перепрелой травой — лежал там осевшими кучами, пористый, черный.
Только больничный двор был покрыт снегом по-зимнему плотно.
В закипающем чайнике нарастал шум-тарахтенье. Михаил, в джинсах и свитере, стоял рядом, слушал. В металлическом корпусе отражалась его сплющенная, искривленная фигура. Тарахтение становилось все сильнее. Вот-вот дойдет до точки кипения.
«Как вообще узнали — про доктора? Ведь тут должна быть врачебная тайна. Это преступление вообще-то».
«Давайте, давайте сопли разводить — скрывать!»
«Согласна. Если б все знали, у кого СПИД, то новых заражений не было бы».
«По-моему, этих больных вообще нужно изолировать. В какой-нибудь резервации».
«Вы еще колокольчики предложите им на шею повесить, как прокаженным».
«А скрывать хорошо? У меня насморк — так я маску надеваю, стараюсь никого не заразить. А они — ходят среди нас».
«Да как он вас заразит? Вы пути заражения знаете хотя бы?»
«Да как угодно! Упал, нос разбил, в аварию попал — ты полез ему помогать, раз-два, и СПИД. Не-не-не, анонимность тут не канает. Хотя бы соседи знать должны!»
«Вы для своих соседей опасность представляете? Сексом, что ли, с ними занимаетесь или из одних шприцев колетесь? Про геморрой или, допустим, простатит тоже всем рассказывать надо?»
«Скоро полстраны подохнет такими темпами! Если узнаю про кого, что спидоносец — всем расскажу, насрать на его права. Колокольчики там или нет, я не знаю. Нашивки пусть носят! Или, лучше, татухи на груди».
«А тут пишут, что СПИДа нет...»
«На заборах тоже много чего пишут!»
«И все-таки непонятно, как узнали-то? Он же сам врач! Кто-то из своих сдал его, что ли?»
Птица на уговоры долго не поддавался.
— Ты хоть понимаешь, что тебя ждет? — спрашивал.
— Да и не факт, — говорил, — что поможет. Я уверен, что это неправильное решение!
Когда они вышли из кафе, площадь уже опустела. Ветер, налетев, завертел под ногами окурки, смятые бумажки. В небе, сцепившись с проводом, рвался и дергался красный шар. Глядя на него, Михаил сказал не то Птице, не то себе, не то еще кому-то — старому мудрому обладателю острого ехидного тенорка:
— Бывают такие решения. Неправильные, но единственно возможные.
Ветер стих, потом налетел опять. Птица опустил голову. Спросил тихо:
— Скажи, Миш... а если человек перестает пить таблетки, он... за какой срок умирает?
Шар — непонятно, что помогло ему — вдруг освободился, стал плавно подниматься в небо.
На сайте odingorod.ru появилась новость: «Врач Михаил Волков, который ведет в Баженове практику по различным вирусным и паразитарным заболеваниям, стоит на учете в областном СПИД-центре по подозрению в заражении ВИЧ-инфекцией».
И началось. «Так вот почему он вел свою СПИД-пропаганду!» «Приехал к нам в город и заражает тут всех!» «А видели вы, он с аптечкой все время? Ясно, зачем: там эти лекарства его спидозные!» «Там у вас в коридоре, извините... кто-то использованные презервативы набросал...» «А я не буду тут мыть, хоть мне в три раза больше заплатите! Другую ищите дуру! У меня внуки!» «Михаил Ильич, вы же понимаете...»
Чайник, наконец, выключился. Михаил налил кипятка в кружку, бросил пакетик, всыпал сахар-песок. Вещи его, мелочи, которыми поневоле обрастаешь, когда проводишь столько времени на работе, уже были собраны — два пакета, завалившись друг на друга, лежали у двери.
Жаль, лимона нет. От кислого сока светлеет густой чайный цвет, становится чистым, янтарным. Все можно отнять, но маленьких радостей не отнять. Все можно потерять, а маленькие радости останутся. Они, маленькие-то, сами по себе. Пребудут вечно.
Он уже сделал глоток, когда появился низкорослый плотный посетитель. Глянул исподлобья, шагнул, протянул руку.
— Марат.
Рука у него была жесткая, как подошва.
— В тот раз на кладбище... — Он не договорил, отвел взгляд. — Ты, короче, это... Сеструху поставь опять на учет. Ну, недопонял, чё, со всеми бывает. Думал, реально нет СПИДа. А как про тебя стали болтать — так, ну... Если уж с врачом такое — болячка, значит, реально есть. Вишня тоже не дура, не думай. Главное, чтоб, ну, не померла.
Марат наклонил голову, будто собирался с Михаилом бодаться, переступил с ноги на ногу.
— И, это... Чё сидеть тут, пустой чай хлебать. Пошли давай к нам. Кто старое помянет, тому глаз вон.
На карниз прыгнул воробей, пробежался с жестяным перестуком. Интересно он ее называет: Вишня. Очень подходит ей. Вишня.
— Жена пирог испечет! — пообещал Марат.
У себя дома он оказался совсем другим. Исчез заряд агрессивной энергии, ушла неловкость, косноязычность: хозяин был перед Михаилом — ухватистый, складный, и даже слегка балагур. Из дохнувшей жаром духовки явился пирог, тяжело опустилась на стол чугунная сковорода с картошкой. И грибы соленые уже были тут — крепкие грузди, скользкие, со слезой, — утонули в сметане, посыпанные кольцами лука.
В рюмках булькнуло, упал в желудок огненный глоток. Михаил прожевал горячую соленую картошку, покосившись на дверь — может, она придет все-таки... — подцепил на вилку хрусткий груздь. Во всем теле разлилось тепло, электрические искры помчались по вилкам, по опустевшим рюмкам. Марат тут же наполнил их снова. Давай, Мишара! Между первой и второй перерывчик небольшой. Первая — колом, вторая — соколом, прочие — мелкими пташечками. Чарка на здоровье, чарка на веселье. Сторонись, душа, оболью!
— У женщин знаешь на что надо смотреть? Не знаешь. Не обижайся, Мишара. Ты молодой еще. А вот руки, пальчики. Посмотришь — и сразу ясно, что она за человек. Сейчас некоторые с такими когтями ходят — консервы можно открывать! А теперь на Аньку мою глянь.
— Кому-то, я вижу, уже хватит! — сказала его Анька, поднимаясь: ей нередко случалось быть единственной женщиной во время застолья, и она безошибочно чувствовала момент, когда пора уходить.
Оставшись с Михаилом вдвоем, Марат подмигнул и достал из-за шкафа еще бутылку. Сунул в морозильник:
— Щас охладим чутка... Ты мне пока вот что скажи: кто там воду мутил, в интернетах? Там явно один типок был закоперщик.
— Был, — кивнул Михаил.
— Я думал сначала, что бывший врач. Уволился, типа, из вашей конторы и решил всю правду рассказать. Ты пирог давай бери еще. Анька пироги лучше всех печет! Я его, падлу, найти хотел. Но смылся, сука. «Аккаунт удален».
Марат покрутил в руках вилку.
— Ты знаешь, кто это? Скажи! Он у меня живо поймет, как людям мозги компостировать.
Михаил выдержал его взгляд.
— Нет, Марат, не знаю. А пирог правда очень вкусный.
***
Фонари сплелись в золотую сеть. Эта сеть ловила его и, конечно, поймала, он барахтался в ней, как крупная неловкая рыба. Улица моталась перед глазами; то удалялся, то приближался асфальт. Один раз он обнаружил его у самого носа. Удивился. Оттолкнул. Асфальт послушно убрался обратно, к ногам.
В прихожей было черно, ничего не видно. А потом из черноты соткался зверь. Глаза зверя светились.
— О... сждаешь... меня?
Почему-то было важно, чтоб зверь не осуждал, а понял. Надо было все ему рассказать. С этой целью Михаил уселся на пол, прислонился спиной к двери и начал рассказывать. Как ему было плохо все это время, весь проклятый месяц, и предыдущий проклятый месяц, и проклятый месяц до этого. И вот сейчас... ты не прд... ствляешь, зверь, что они творят.
А зато, отвечал зверь, Киллер заткнулся. Ему теперь никто не поверит! Переиграл ты его.
— Да я вообще не про это думал! — возмутился Миша.
Зверь сверкнул глазами: зато он — про это. Он теперь тебе враг на всю жизнь. Такие, как Киллер, своего поражения не прощают. С самого начала не надо было с ним связываться... Но главное — в интернете на нет сошел этот вороний грай. Точнее, там сейчас другой грай, по твою уже душу... Уж такие они тут люди. Ну страшно им, что! Бог с ними. Главное, пациенты вернулись. Даже твой Альберт Кузьмич. Ты ведь этого добивался?
Миша поерзал. Этого. Мы оба с Птицей — этого... Птица — он человек. И Марат — человек. И ты — человек, зверь. Зве-ерь! Тьма ты моя ушастая... тьмущая... Дай я тебя обниму.
Тут зверю, видимо, надоело. Дернул он хвостом и пропал. Только глаза продолжали сиять — два их сначала было, глаза-то, потом четыре, потом больше, больше, и вот уже одно сплошное сияние. Мутное, как сквозь воду. И смех доносится. Радостный такой. Лешкин.
А потом смолк смех, и Михаил услышал хрип — свой собственный. Он хрипел, дыхания не было, и горло жгло, как будто сквозь него проталкивали занозистую доску. Он нес Лешку: сейчас, когда он был взрослым, это оказалось нетрудно, — но берег был, как всегда, где-то на горизонте. А в воду положить нельзя. Вода — убийца. На сухое надо, обязательно на сухое. Вот только донесу...
Он донес. Стоял и смотрел без единой мысли, как деревянный. А Лешка не шевелился. И Михаил тоже не шевелился, не мог. Не мог даже упасть: стоял.
Остановился и сон.
Нет! Не останавливайся, не смей — уже полупроснувшись, он толкал сновидение силой воли, хотел досмотреть, увидеть, что все пошло по-другому. Я тебя запущу... сейчас... прекардиальный удар... Ага!
Сердце пошло, вернулось дыхание, Лешка моргнул, перевалился на бок, изо рта хлынуло.
И только тогда Михаил позволил себе проснуться совсем.
***
— Тяжко, да? — Голос Птицы в телефоне был сочувственный и насмешливый одновременно.
— В смысле... тяжко?
— Да вот кое-кто рассказал мне, что один доктор... если точнее, инфекционист... Шел домой, как бы это сказать... элегантно придерживаясь за асфальт.
Михаил промычал что-то неопределенное. Этот бор-городишка! Следит за ним. Никогда не спит.
— Ты давай соберись, — посоветовал Птица. — Душ прими, что ли. Чаю крепкого выпей. Ну я не знаю, что там делают в таких случаях. Тебе видней. В три часа нужно, чтоб ты был на Махатмы Ганди.
Зверь провожал до двери. Красавец он все-таки. Шерсть лоснится, еле заметно вздрагивают чуткие уши.
— Ты мне дорогу еще перейди... — сказал ему Михаил.
Не то чтобы похмельный, а все еще будто пьяный, он шел по улице Ганди. На скамейках сидели старушки в цветных платках: зеленых с красными розами, и синих в желтых огурцах, и еще других — разных. Сыпали семечки слетающимся голубям. У голубей были бензиновые радуги на шеях. Откуда-то доносилась музыка. Фредди Меркьюри вскрикивал совсем по-нашему: «Мама!» На распорках был установлен плакат — что на нем написано, Михаил издалека различить не мог, зато видел, как Птица — он был в красной толстовке — вдруг обнял проходящую мимо длинноногую девушку. А вот и еще двое... Да тут все обнимаются! Какой-то парень схватил сразу двух киснувших от смеха старушек. Грузная женщина в джинсах облапила отца Игоря. Батюшка, кстати, недовольным не выглядел...
Михаил подошел к плакату и остановился.
Подскочил пухлый паренек:
— Здрасьте, Михал Ильич! А вы у нас лекции в школе читали, помните? Нравится плакат? «День объятий»! Это я рисовал! Птица сказал, что в каком-то городе такое делали — для тех, у кого ВИЧ, чтоб они себя изгоями не считали. Но у нас-то никто ж не скажет, что болен! Поэтому мы про ВИЧ не стали писать. А просто, вот, «если кому-то плохо». И Queen мы нарочно выбрали. — Он подпрыгнул от радости, и Михаил подумал, что пареньку наверняка хочется обнять побольше красивых девчонок — независимо от того, плохо им или нет. — Queen — это намек! Вы-то догадались? Ну вы чего! Сами же нам рассказывали, что у Фредди Меркьюри СПИД был!
Михаил уже не слушал. Вдруг появилось ощущение, что его кто-то зовет. Оглянулся — и увидел Вику. Светлый плащ, тонкие каблуки. Непокрытая голова — простудится же! — розовые маленькие уши, сережки-гвоздики — все увидел в одну секунду.
Она прошла по его взгляду, будто эквилибрист по канату. Будто вокруг пустой воздух и нет другого пути. И, словно всю жизнь только это и делал, Михаил обнял ее и прижал к себе.
В небе щурилось солнце.
Над широкой улицей Махатмы Ганди разносился бессмертный голос Фредди.
Is this the real life? Is this just fantasy?2
...нет выхода из реальности, но открой глаза, посмотри в небо...
I’m just a poor boy, I need no sympathy3.
...мама, жизнь только началась...
1 Medice, cura te ipsum (лат.) — врач, исцели себя сам.
2 Is this the real life? Is this just fantasy? (англ.) — Это настоящая жизнь? Это только фантазия?
3 I’m just a poor boy, I need no sympathy (англ.) — Я просто несчастный парнишка, меня не нужно жалеть.