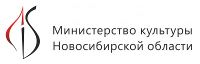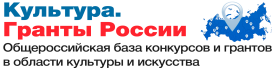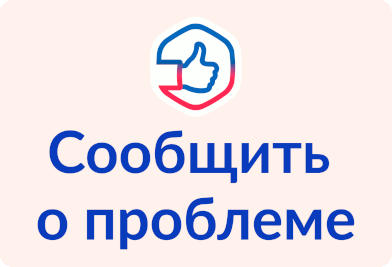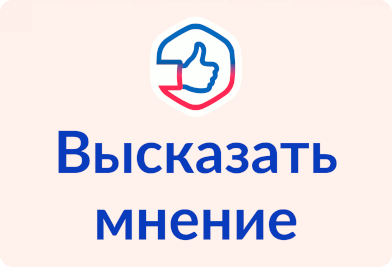Вы здесь
Юрий Бондарев: накануне столетия
Писатель Юрий Бондарев, ушедший в 2020-м в возрасте 96 лет, накануне столетнего юбилея вновь сделался чрезвычайно актуален. Страна нуждается в сильных идеях и людях, мобилизующем художественном творчестве; естественно, востребован соответствующий опыт великой войны — от песенной военной поэзии до «лейтенантской прозы», одним из лидеров которой был Юрий Васильевич.
Напомним, однако, что у «лейтенантской прозы» своя и особенная хронология: первые ее незаурядные образцы увидели свет в конце 1950-х — начале и середине 1960-х; после окончания Великой Отечественной прошло от дюжины («Батальоны просят огня» Юрия Бондарева и «Южнее главного удара» Григория Бакланова, 1957) до двух десятков лет («На войне как на войне» Виктора Курочкина, 1965). Проза о войне, войне как главном событии в жизни — это, помимо прочего, еще сюжет поколения — его творческого взросления и осмысляющего вызревания. Для подобных процессов необходим общественный и художественный фундамент, эмоциональный и мировоззренческий, созданный либо на войне, либо сразу после нее. «Лейтенанты» имели в бэкграунде весь корпус аутентичной публицистики и прозы, прежде всего Михаила Шолохова (главы «Они сражались за Родину» печатались в «Правде» уже в 1943 году). Великолепная песенная поэзия Великой Отечественной — явление феноменальное и беспрецедентное — дала нерв и интонацию всему направлению.
Вот любопытный пример взаимовлияния военных текстов: фамилия Деев (т. е. «божественный», скорее всего — священнического происхождения; впрочем, был в России и княжеский род Деевых, угасший в XVIII веке) привлекла ведущих писателей-баталистов.
Артиллерийский майор Деев — один из главных героев маленькой поэмы Константина Симонова «Сын артиллериста» (1941), вынужденный отправить на смертельно опасное боевое задание приемного сына-лейтенанта. Поэму очень любили наши мамы и бабушки, знали наизусть.
У Юрия Бондарева в романе «Горячий снег» герои-артиллеристы воюют в дивизии полковника Деева — именно на нее обрушивается бронированный кулак танков Манштейна, прорывающихся к окруженному в Сталинграде Паулюсу.
И снова «лейтенантская проза»: Виктор Курочкин и его замечательная повесть «На войне как на войне». В ней фигурирует Герой Советского Союза полковник Дей, «самый боевой командир в корпусе», который «не щадит ни себя, ни своих солдат».
Но, пожалуй, главным предтечей «оттепельной» баталистики был Виктор Некрасов (повесть «В окопах Сталинграда», первая публикация 1946 года, журнал «Знамя», сам автор предпочитал называть ее «Сталинград»).
Повесть, из которой вышла «лейтенантская проза», — вещь, интересная не одной окопной правдой. Иосиф Сталин наградил повесть премией своего имени в обход союзписательского выдвижения, всего тогдашнего порядка вещей. Возможно, как читатель-профессионал, он рассмотрел в ней не только нижний, солдатский слой, но и верхний, о метафизике войны, государства и создания монолита нации, эдакого непрерывного «сверх». Поскольку «В окопах Сталинграда» — книга о том, как жесточайшая война из обычных людей создает сверхчеловеков, виртуозов боевой работы, адептов державного стоицизма, которые, выжив, сделаются строителями сверхгосударства. Этот пафос и станет принципиальным для всей «лейтенантской прозы».
Захар Прилепин в предисловии к сборнику воспоминаний участников СВО «Жизнь за други своя» говорит:
Соревноваться с той литературой, в сущности, почти невозможно: ее профессиональный уровень — запредельный. Они всё умели делать: и сюжет, и фабулу, и образ, и метафору, и завязку, и кульминацию. Галереи героев вырисовывали до мельчайших деталей: каждого запомнишь, как родного. И природу умели изобразить, и любовь. И баталии описать. Да так, что по Александру Беку по сей день военное дело в академиях изучают, а на повестях Юрия Бондарева будущие артиллеристы вполне могут письменную практику проходить.
Однако было ведь и что-то еще, помимо лично пережитого и приобретенного. Я бы сказал об общественном климате: когда индивидуальный опыт каждого имеет все возможности прорастать в национальный миф.
Это особенно заметно на примере Юрия Бондарева. Известный историк кино Михаил Трофименков пишет в некрологе:
...Он оставался в глубине души демобилизованным по ранениям капитаном с двумя медалями «За отвагу» на груди. Чудом выжившим смертником — командиром минометного расчета, затем — артиллерийской батареи, останавливавшим немецкие танки, рвавшиеся на выручку к Паулюсу, форсировавшим Днепр, бравшим Киев.
Про боевой путь и штатскую жизнь — все верно, тем не менее «демобилизованный капитан с двумя медалями «За отвагу» на груди» — красивый миф, зрительный образ, но для фронтовой реальности — оксюморон. Поскольку тут либо одно, либо другое — или офицерские погоны, или, по слову самого же Бондарева, «ценнейшая солдатская медаль “За отвагу”».
Кстати, коллеги Бондарева по «лейтенантской прозе» имели, как писал Александр Солженицын, «малый джентльменский набор» орденов за войну; Виктор Курочкин — Отечественной войны II степени и Красной Звезды, Григорий Бакланов — Красной Звезды, аналогично — у Василя Быкова.
А вот у Юрия Бондарева две солдатские медали «За отвагу». Смотрим формулировки в наградных документах:
1. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу»
Командира орудия 76 мм пушек гвардии сержанта Бондарева Юрия Васильевича за то, что он в боях районе села Боромля Сумской области с 13 по 17 августа, следуя в боевых порядках нашей пехоты, метким огнём своего орудия уничтожил три огневых точки, одну автомашину, одну противотанковую пушку и 20 солдат и офицеров противника.
1924 года рождения, член ВЛКСМ с 1942 года, русский, призван в РККА Актюбинским городским военным комиссариатом.
2. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью «За отвагу»
Командира орудия 4-й батареи — гвардии старшего сержанта Бондарева Юрия Васильевича за то, что 30 марта 1944 года противник, стремясь вернуть г. Каменец-Подольск, перешёл в контратаку при поддержке танков. Товарищ Бондарев встретил немецкие танки и пехоту огнём своего орудия с открытой ОП [огневой позиции]. Один танк был подбит и пехота рассеяна. Контратака противника была отбита.
Итак, награды у Юрия Васильевича именно и отменно солдатские — две медали «За отвагу», орденов премногих тяжелей, если перефразировать Афанасия Фета.
Таким образом, выходит, что Юрий Бондарев, основоположник «лейтенантской прозы», самые славные и главные свои военные годы лейтенантом и вообще офицером не был? Здесь парадокс, который способен нам объяснить многие сюжеты на стыке биографии писателя и его прозы.
Именно этот момент во фронтовой биографии Бондарева весьма загадочен — отчего он, москвич, окончивший десятилетку (по тем временам очень высокий уровень образования), выпускается из 2-го Бердичевского пехотного училища, эвакуированного в Актюбинск, и отправляется на фронт под Сталинград не офицером, а сержантом? Возможно, дело тут именно в Сталинграде, то есть в ускоренном курсе обучения, вызванном критическим положением на фронтах? Но, судя по всему, Бондарев был призван в училище сразу по окончании школы, не позднее июня 1942 года, на фронт отправлен в октябре, а в тот тяжелейший год 4-месячный курс мог считаться ускоренным, но едва ли становился основанием лишать курсантов офицерских званий, а подразделения — командного состава. Видимо, случай Бондарева — сугубо частный.
И тут нам, как всегда, приходит на помощь литература — роман «Горячий снег», посвященный тому самому эпизоду Сталинградской битвы, где Юрий Васильевич получил боевое крещение, ранение, обморожение и медаль «За оборону Сталинграда». Уже на первых страницах появляется яркая фигура старшего сержанта Уханова, командира орудия во взводе лейтенанта Кузнецова.
— Не понимаю, Уханов, почему тебе не присвоили звания? — сказал несколько задетый его насмешливым тоном Кузнецов. — Может, объяснишь?
Со старшим сержантом Ухановым он вместе заканчивал военное артиллерийское училище, но в силу непонятных причин Уханова не допустили к экзаменам, и он прибыл в полк в звании старшего сержанта, зачислен был в первый взвод командиром орудия, что чрезвычайно стесняло Кузнецова.
В дальнейшем Уханов с усмешечкой рассказывает свою историю — и в ней и впрямь больше смешного, чем криминального, — банальная самоволка, из которой вернулся в училище через окошко казарменного сортира, да и увидел в оном начальника в непотребном и юмористическом виде. Однако по мере разворачивания романа этот «скверный анекдот» становится как бы излишним — Уханов проявляет себя честным и умелым тружеником войны (его орудие — единственное уцелевшее во взводе Кузнецова и батарее Дроздовского). На фоне главного в настоящем суета и заусеницы прошлого стираются дочиста. Прием, распространенный в военных вещах Юрия Бондарева, в нем много от христианского мироощущения: когда война становится аналогом крещения во избавление от прежних грехов.
Тем не менее следует ли понимать этого персонажа в качестве бондаревского протагониста? Нам также известно, что до войны Уханов служил в уголовном розыске, а что мы знаем о довоенной юности Бондарева?
Из интервью пожилого уже писателя с Сергеем Шаргуновым:
С. Ш.: Вы жили в Замоскворечье... Что самое яркое там запомнилось?
Ю. Б.: Это были неповторимые и беспримерные времена. Двор был — одна семья. Почти все ночью выносили кровати и спали под столетними липами. Старшие рассказывали о Гражданской войне... Я во дворе поставил турник, делал солнышко... У меня был второй разряд по гимнастике. Скажу без ложной скромности, что считался самым сильным и храбрым во дворе. Может быть, на меня повлиял Джек Лондон, я любил и до сих пор люблю его безоглядно отважных мужественных героев.
В Замоскворечье, где прошло мое детство, я полюбил голубей. И там, в Замоскворечье, были сплошные голубятни. У меня были все породы голубей!
Какую-то связь между автором и героем здесь можно установить голубиной почтой, поскольку голуби в довоенной и послевоенной Москве — бизнес отчасти криминальный и где-то краями соприкасается с ухановским уголовным розыском. (Отметим также: генерал Бессонов — один из главных героев «Горячего снега» — вспоминает, как в той, прошлой жизни, выпорол сына-подростка за украденные из сумочки матери деньги, спущенные именно «на голубей».)
То есть Бондарев не занимается игрой в прототипы, но подбрасывает ключи, в том числе и к собственной фронтовой биографии. Сам по себе набор из двора в Замоскворечье, гимнастики, голубятен густо намекает на известную независимость характера и поведения, которая могла привести к такому вот результату: офицерское звание младшего лейтенанта Бондарев получил уже после войны. Когда окончил Чкаловское артиллерийское училище, куда был направлен в октябре 1944 г. В декабре 1945 г. его демобилизуют по ранениям, на следующий год он поступает в Литературный институт.
Пройти всю войну солдатом, чтобы прийти офицером в русскую литературу. Красиво и символично.
Отметим, что в главных военных вещах Юрия Васильевича — «Батальоны просят огня» и «Горячем снеге» — определенно заметен солдатский, несколько отчужденный, взгляд на младшее офицерство. (Прием этот не магистральный, он как бы вплетен в многожильный провод бондаревской психологической полифонии.) Диапазон тут довольно широк:
— от иронии с лирическими и трагическими обертонами — лейтенант Прошин в «Батальонах» романтически представляет собственную гибель, а гибнет всерьез и навсегда:
Прошин не раздумал, что на войне его не убьют, но если уж суждено умереть, то он не погибнет случайно, сраженный шальной пулей. Нет, он доползет под огнем до разбитого орудия, обнимет ствол, поцелует его еще живыми губами, прижмется к нему щекой и умрет, как должен умереть офицер-артиллерист. Его понесут от орудия к могиле на плащ-палатке, и он почувствует, что солдаты скорбно смотрят на его молодое и после смерти прекрасное своей мужественностью лицо, и будут плакать, и жалеть, и восхищаться героической его смертью. Потом прозвучит залп на могиле, и клятвы мстить, и последние слезы по любимому всеми лейтенанту, которого никто никогда не забудет, а капитан Ермаков, этот грубый солдафон, горько пожалеет, что был несправедлив и не полюбил его.
— до четко артикулированной неприязни, которую вызывает у автора «Горячего снега» службист и наполеончик — командир батареи лейтенант Дроздовский, стремительно линяющий в последующих страшных боях.
(Тут снова значимая фамилия и оставленные Бондаревым ключи, сродни постмодернистским. Генерал Бессонов вспоминает, и подчас мучительно, откуда ему памятна эта фамилия? Бессонов, несомненно, воевал в Гражданскую войну, заметной фигурой которой был генерал-майор Михаил Гордеевич Дроздовский, представитель военной династии, икона Белого движения, один из немногих последовательных монархистов в Добровольческой армии; на мелодию «Марша дроздовцев» были написаны слова раннесоветского походного хита «По долинам и по взгорьям».)
Можно отметить этот своеобразный комплекс и в литературной жизни — прошедший войну солдатом, Юрий Бондарев стал многолетним писательским генералом и носил эти эполеты не без удовольствия. Он даже ухитрился в реку литературного генеральства войти дважды — секретарь и председатель правления Союза писателей России (1971—1994), а затем стал председателем Международного сообщества писательских союзов — организации, без особого успеха в новые времена пытавшейся удержать остатки писательского имущества времен Союза.
***
Юрий Бондарев первым из своей генерации, после «Батальонов» и «Последних залпов» — «лейтенантская проза» еще только оформляется в перспективное направление, — решается преодолеть инерцию чистой баталистики, замахнуться на Льва нашего Николаевича (большинство русских писателей XX века будут отнесены к толстовскому корню, но Бондарев — среди первых), в рамках многослойной эпопеи не только с войной, но и миром — в обоих смыслах.
Я веду речь о своеобразной дилогии Бондарева из романов «Тишина» (1962) и «Двое» (1964), объединенных не столько персонажами и общим мерцающим сюжетом их судеб, сколько историко-эмоциональным антуражем — напряженной, сгущенной атмосферой послевоенной жизни. И здесь надо говорить в первую очередь об экзистенциальном переживании; когда стирается граница между реальным и сновидческим, и это становится сильной метафорой очередных «страшных лет России». Приобретенное мастерство баталиста, динамика и рельеф письма Юрию Васильевичу очень помогали:
Выбиваясь из сил, он бежал посреди лунной мостовой мимо зияющих подъездов, мимо разбитых фонарей, поваленных заборов. Он видел: черные, лохматые, как пауки, самолеты с хищно вытянутыми лапами беззвучно кружили над ним, широкими тенями проплывали меж заводских труб, снижаясь над ущельем улицы. Он ясно видел, что это были не самолеты, а угрюмые гигантские пауки, но в то же время это были самолеты, и они сверху выследили его, одного среди развалин погибшего города.
«Тишина», которую мы процитировали, более известна. Возможно, по причине экранизации Владимира Басова 1964 года (там впервые прозвучал песенный шедевр «На безымянной высоте»). Что касается романа «Двое» — по моему ощущению, зрелый Бондарев его несколько конфузился (глагол не точен, но не очень понимаю, какой здесь может быть точнее). Ситуация очевидна из библиографии: в первом собрании сочинений Бондарева (4-томник, «Молодая гвардия», 1973—1974) «Двое» отсутствуют. В советском 6-томнике (ИХЛ, 1984—1986) и постсоветском 8-томнике («Голос», 1993—1996) — тоже, и только в последнем прижизненном 6-томнике («Книговек», 2013) роман «Двое» реабилитирован и восстановлен в правах.
В чем здесь даже, кажется, не причина, а проблема? Явно не в качестве — Бондарев из тех писателей, кто, согласно Пастернаку, не отличает поражения от победы. «Двое» — вещь, при всем своем атмосферном экспрессионизме, лаконичная, точная, почти избежавшая традиционных у Бондарева мелкой описательности и стилистической рыхлости; в конце концов, финальные страницы «Двоих» — лучшее, пожалуй, в русской литературе отражение похорон Сталина (прошу прощения за объемную цитату, она того стоит):
Людской вал неистовым напором вырывался к проходу, наваливался сзади на машины, на Константина. А он, напрягая мускулы спины, рук, опершись в железную дверцу грузовика, старался удержать всем своим телом натиск толпы, охранить этот уголок подножки с Асей. И видел лишь ее огромные, молящие глаза, раскрытые на половину лица от боли. Он уже не слышал крики и гул толпы, темными кругами шло в голове. «Сколько так будет — секунда? Минута? — туманно мелькнуло в его сознании. — День? Год? Всю жизнь? Я не выдержу так пяти минут... Я не чувствую рук. Что же делать? Что же делать? Я ничего не могу сделать! Неужели я не могу!.. Вот легче, стало легче...» Сквозь пот, разъедающий глаза, он вдруг заметил под ногами цепляющиеся красные пальчики, они поползли из-под машины, и, как из серого тумана, поднялось грязное, дурное лицо девочки — она захлебывалась слезами, высовывая голову из-под машины, и, царапая пальцем по рубчатой резине колеса, позвала тоненьким, комариным голосом:
— Мама... Мамочка... Я хочу к маме... Я хочу домой...
Константин увидел ее в тот момент, когда толпа, оттиснутая цепью милиционеров, качнулась назад. Он оглянулся. Знал — сейчас толпа, напираемая сзади, снова качнется вперед, забьет трещину, в нее ринутся что-то орущие милиционерам, лезущие сбоку и из-за спины парни с ничего не видящими сизыми лицами...
— Под машину... Под машину, Ася! С девочкой... Под машину! Он улавливал воющий, нечеловеческий крик, и как будто в зрачки ему лезло лицо женщины с развалившимися на два крыла черными волосами, ее раздирающий вопль:
— Сам ушел и детей моих унес! А-а!.. И голоса сквозь звон в ушах:
— Товарищи! Товарищи! Назад! Мы не пойдем! Милиция! Остановите!
— Людей... что сделали с людьми?
— Кто виноват? Кто виноват? Кто виноват во всем?
И еще голос: — Стойте! Стойте!.. Потом все исчезло, и пустота понесла его. Он хрипел в эту пустоту: — Ася... Ася... Под машину! Под машину!..
Полагаю, зрелого Бондарева смущал в романе «Двое» очевидный антисталинский пафос — после 1960-х его отношение к Иосифу Сталину менялось и эволюционировало (что заметно по сюжетной линии генерала Бессонова в «Горячем снеге», и я имею в виду не только знаменитую сцену аудиенции с Верховным). Тем не менее тогдашняя светлоликая общественность явно скакала впереди паровоза, объявляя Бондарева упоротым сталинистом. Упомянутый историк кино Михаил Трофименков говорит о данной коллизии в связи с выходом знаменитой киноэпопеи «Освобождение», где Юрий Васильевич был одним из сценаристов:
Насколько была — уже тогда — сбита либеральная оптика, демонстрирует восприятие «прогрессистами» «Освобождения» Юрия Озерова, величайшей военной эпопеи: лучше в этом жанре ничего не было и уже не будет снято в целом мире. В общественно-политическом смысле она была знаменательна тем, что после пятнадцатилетнего запрета на упоминание Сталина как Верховного главнокомандующего он вернулся на экран во всем своем страшном величии — вопреки сопротивлению цензуры и антисталинского лобби во главе едва ли не с самим Михаилом Сусловым. И тут же родился миф: это все Бондарев, Бондарев, это он, сталинист, сложил гимн своему кумиру. Между тем почерк Бондарева невозможно было не узнать в окопных, а не в кремлевских эпизодах фильма. За образ Сталина в «Освобождении» отвечал бондаревский соавтор Оскар Курганов, но его либералы ничем не попрекали.
Здесь возникает сюжет, внешне укладывающийся в литературную ситуацию ранних 1960-х, но по историко-социальным параметрам многократно ее превосходящий — виртуальное соперничество Юрия Бондарева и Александра Солженицына. Известный литературный критик Виктор Топоров в 1998 году в статье «Когда тайное становится... скучным» задался вопросом, имея в виду, разумеется, контекст не только литературный: а что, если бы в 1963-м Солженицыну дали бы за «Ивана Денисовича» Ленинскую премию, а Юрия Бондарева тогда же «притравили» за «Тишину» и роман «Двое», сделав фактически оппозиционным автором? Кто бы из них оказался в Вермонте, издевательски продолжает Топоров, а кто в особняке на Комсомольском проспекте? Виктор Леонидович отлично понимал, что ответ будет вовсе не линеен и прост; во всяком случае, зеркальной смены функционалов точно не предвиделось бы... Если Александра Исаевича можно себе представить советским литературным генералом, на трибуне, в орденах и лауреатских звездах (что с некоторыми поправками на смену времен и нравов и произошло — после 1994 года), то вот Бондарева в солженицыных представить совершенно невозможно.
Топоров тогда с характерным для его литературного поколения пиететом перед Солженицыным сделал оговорку, предложив Бондареву в пару фигуру, как казалось Виктору Леонидовичу, более соразмерную — Виктора Некрасова. Но эту лестную для Солженицына конструкцию разрушил сам Александр Исаевич: вернувшись в Россию, старец взревновал авторов «лейтенантской прозы» и к войне, и к литературе и решил заменить собой все направление, опубликовав несколько военных текстов (прежде всего «Адлиг Швенкиттен», «Желябугские Выселки», «На краях»).
Так вот, сделаны они совершенно вторично, слабо, тускло, с ненужным историософским пережимом, с фальшивым надрывом и неестественными диалогами, по которым, как в детской хрестоматии, расставлены правильные ударения; не верится, будто автор этих написанных в 1990-е повестей создал хотя бы «Случай на станции Кречетовка», не говоря об «Иване Денисовиче». Тем не менее ключевая проблема даже не в амортизации литературного дара, а в том, насколько война и фронт — совершенно умозрительны для автора, не надо быть опытным читателем, чтобы понять: его там не было, и пишет он, в лучшем случае, «по источникам». И не то, чтобы заменить, но даже приблизиться к прозе «лейтенантов» у Солженицына не получится — как минимум по причине невозможности в его текстах эффекта присутствия, принципиального для их военной литературы.
Фронтовую биографию Солженицына подробно исследовал литературный критик Владимир Бушин, издевательски писавший о командире «беспушечной батареи» (она называлась «батарея звуковой разведки»), действовавшей, как правило, далеко от линий боевого соприкосновения. Александр Исаевич в военных повестях парадоксальным образом подтвердил тезисы Владимира Сергеевича.
***
И если уж речь зашла о Бушине. Однокашник по знаменитому послевоенному курсу Литературного института, приятель, а в последние для обоих годы (ушли с разницей в три месяца) — оппонент Юрия Бондарева, в эти самые годы и как бы впроброс сказал, что Бондарев, по сути, автор одной книги — «Горячий снег».
Сказано было в полемике, с явной целью — обидеть визави, но определенная логика в резком утверждении Владимира Сергеевича есть, если оговориться, что «Горячий снег» — не единственная настоящая литература в обширном корпусе Бондарева, но самая совершенная вещь среди им созданных.
Между романами «Батальоны просят огня» и «Горячий снег» — те же двенадцать лет, в историческом смысле вместившие в себя всю оттепель, от XX съезда до танков, идущих по Праге.
«Батальоны», кстати, дважды удачно экранизированные (фабула повести стала основой для второго, 1969 года, фильма «Прорыв» эпопеи «Освобождение»; в 1985-м, к юбилею Победы, режиссерами Владимиром Чеботаревым и Александром Боголюбовым был снят телевизионный сериал), открывают «лейтенантскую прозу», «Горячий снег» ее в известном смысле закрывает — поскольку Юрий Васильевич выражает уже не поколенческий, а общенародный взгляд на войну, аргументирует не только окопную, «лейтенантскую», но и генеральскую правоту, которая вовсе не очевидна была для него в «Батальонах» (Бессонов: «Ни шагу назад! Стоять — и о смерти забыть! Не думать о ней ни при каких обстоятельствах!»); подробная физика боя сменяется метафизикой, когда Бондарев как будто работает сразу на нескольких планетарных уровнях: боевая работа, начинаясь как свирепый спорт выживания, возвышается до мировой страды, через вовлечение в солдатский труд светил, стихий, таинств (и при этом ни малейшего символизма). Черное, белое, красное — цвета Армагеддона; страшноватое соединение тайны и мощи, «Горячий снег» можно сравнить с идеально подогнанным и уверенно запущенным сложнейшим механизмом.
После такой вещи неизбежно писательское выгорание — и в плане темы, и относительно метода. Куда должен был двинуться Бондарев? Дальше художественно оформлять десять сталинских ударов, поскольку есть уже Сталинград, форсирование Днепра, освобождение Польши («Последние залпы»)? Окончательно переместиться из «лейтенантской прозы» в генеральскую? Дать двойной сравнительный портрет Сталина и Власова (а темная сторона войны, ее диалектика — коллаборационизм, предательство, недовоеванная Гражданская — честного хроникера Бондарева интересовала, это заметно и в «Батальонах», и особенно в «Горячем снеге»)? Пойти по второму и третьему кругу экранизаций? Так с этим и так все обстояло замечательно.
В семидесятые и доперестроечные восьмидесятые статусный и благополучный Бондарев выбирал, скорее, не тему и метод, а модель взаимодействия художника и времени. Где-то рядом работал над «московскими повестями» Юрий Трифонов, сам по себе становившийся явлением; строил циклопическую «Пирамиду» патриарх Леонид Леонов... Юрий Васильевич, создавая романную трилогию — «Берег» (1975), «Выбор» (1981), «Игра» (1985), — надо полагать, видел себя именно в этом ряду.
Однако, мне кажется, уместней другая аналогия — с Василием Аксёновым, которого, как и других фрондирующих шестидесятников, Бондарев, скорее всего, всерьез в литературе и не воспринимал.
Роман Аксёнова «Ожог» (1975), изначально написанный в расчете на западные публикации, тамошний хайп и нобелевские потенции (все эти мечты и звуки мимоходом торпедировал приобретающий значительное влияние на Западе Иосиф Бродский), — эдакая бунтарская панорама шестидесятнических страстей на фоне эпохи, мутноватая физиология диссиды. Основной прием — сюрреалистическая расчлененка, когда главного и во многом автобиографического героя представляют сразу несколько творческих интеллигентов — писатель, джазмен, скульптор, врач и секретный физик.
Между тем у Бондарева в трилогии профессии главных героев — соответственно писатель — живописец — режиссер. У Аксёнова в романных флешбэках — детство автора в столице мирового ГУЛАГа Магадане, у Бондарева — естественно, война. Стилистическая доминанта «Ожога» — по выражению Давида Самойлова, «бунт пьяных сперматозоидов», Бондарев в своей трилогии снова выглядит послушным учеником Константина Паустовского и Ивана Бунина, казалось, окончательно преодоленного в романах «Двое» и «Горячий снег». (Вообще, появление Бунина у Бондарева — первый признак того, насколько автору тяжело дается текст. «Бунина» я имею в виду в широком смысле — от мелкой, почти насекомой описательности до старческой конфузливой эротики.)
Я вовсе не собираюсь унизить зрелого Бондарева молодившимся Аксёновым, «Ожог» — вещь по-своему любопытная и для автора знаковая. Излишне также говорить о том, что в «Береге» и «Выборе» есть ряд сильных кусков, глубоких характеров, а военные сцены — всегда на прежнем высочайшем уровне. Похоже, проблема в принципиальной невозможности для того десятилетия свести глобальный замысел со сколько-нибудь выдающимся результатом; видимо, время незаметно ускорялось, тревожно сигнализировало о скором крушении миров и требовало иных форм.
Не случайно главным текстом зрелого Бондарева стал не роман, а манифест «Слово к народу» (23.07.1991), исполненный не индивидуально, а в коллективе (из писателей — Юрий Бондарев, Александр Проханов, Валентин Распутин). Архитектор перестройки Александр Яковлев называл «Слово» документом, идеологически обеспечившим ГКЧП; интеллигенция, тогда почти поголовно либеральная и проельцинская, особенно возненавидела, по новому кругу, Бондарева и Проханова.
Однако Бондарева это каким-то странным образом уже и не очень затрагивало. Вместе с Советским Союзом он как будто и хотя бы отчасти переместился в Историю. Не в том смысле, что окончательно сгинул из актуального календаря — Бондарев писал, функционировал, делал принципиальные политические заявления (отказался принять от Ельцина орден Дружбы), — а в том, что оказался сразу и здесь, и там — где вещи и явления прочней и долговечнее, память крепче, судьбы ярче и определеннее. Как будто знал, что мир скоро вновь повернется этой суровой, сложной и, в конечном итоге, правильной стороной.
Так накануне столетия и получилось.