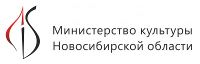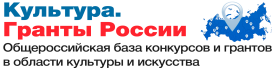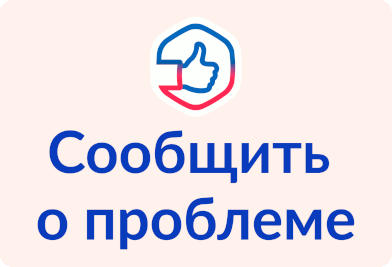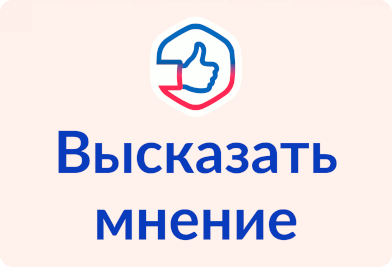Вы здесь
На краю рая
Отец подаст мне знак
Дине Ахметовой
Приличный смартфон («а то ходишь, как терпила») — с земноводным отливом, плоский и загадочный, как хвост бобра, — подарил мне, разумеется, сын. А набил его всякой всячиной, оживил и заставил работать, разумеется, внук. В этих делах он продвинутый, но все же еще ребенок. И номер своего отца, то есть моего сына, занес мне в контакты с трогательной ошибкой: «Папа». И теперь примерно раз в месяц, когда сын вдруг звонит мне, я на миг холодею, видя эту надпись. Ведь мой-то папа, давно лежащий на кладбище «Солонечное № 2», набрать мне никак не может. А наверняка бы хотел, потому что был ужасно общительным.
Да они многие из того поколения были общительными. Уже редкое, отмирающее свойство. Простодушный интерес к жизни других. У нас-то скорее коммуникабельность: ладно, сконнектимся, давай, на созвоне. И всё больше по делу. А остановиться посреди улицы и минут десять выслушивать всякие мелкие новости какого-нибудь шапочно знакомого — вот уж нет, увольте!
Но это сейчас ты такой спохватившийся-сентиментальный. А в детстве-юности даже стыдился порой его непомерной жажды узнать побольше, быть сопричастным всему вокруг. Едем, бывало, на мичуринский вместе в автобусе, и пару остановок отец еще терпит, а потом непременно вступит в разговор. Да еще пальцем покажет на тебя собеседнице — старухе с грубым мужским лицом, но в белой панаме, наверняка бывшей сотруднице заводоуправления (что особенно противно, лучше бы уж с бабушкой любой простой заговорил), — иллюстрируя тезис о том, что не вся молодежь пропащая, вот его сын, к примеру, и спортсмен, и отличник, и воспитанный (и в кого только?).
И когда мы выходили из автобуса, я не раз выговаривал ему за такую неделикатность. Но, понятно, без толку.
А после шестидесяти им вдруг овладела странная жажда странствий. То есть охота к перемене мест, но с желанием укорениться, утвердиться, подтвердить свое видное место на генеалогическом древе. Для чего он собрался — для начала — проведать всю родню в Сибири. И при этом свято был уверен, что везде его встретят хлебом-солью — то есть пирогом с муксуном или белорыбицей, а еще шаньгами, настоящими шаньгами, у которых может быть куча всяких начинок, но самые вкусные баба Пана пекла с творогом, или с лесной ягодой, или с белыми грибами (а других и не брали, разве что грузди, да и то только единственно правильные — желтые, сырые, с бахромой), а он ловко и безнаказанно таскал те шаньги из огромного короба не то в сенях, не то на чердаке — тут версии разнились, но восторг оставался неизменным.
Прошлое вообще рисовалось ему с такой лучезарностью, что мы с сестрой всерьез побаивались его отпускать, ведь, помимо проблем со здоровьем, эта авантюра была чревата и болезненным разочарованием: «Шеф, клиент приезжает, а все пропало!» Однако отец был непреклонен, удивительно собран и празднично воодушевлен, и грех было ему препятствовать.
Он сам накопил на путевку («Круиз по Оби» — звучит, согласитесь, крайне соблазнительно), так что вопрос встал лишь с подарками. Ну не шишки же кедровые везти в Нижневартовск, это благосклонных москвичей еще умилит такая туземная экзотика. Но отец решил проблему гениально просто: взял с собой пару бутылок крепкого «Кузбасского бальзама» да набор открыток с видами нашего Кемерова. И таких презентов оказалось вполне достаточно. Во всяком случае, он так нам потом это подавал.
На теплоходе он участвовал во всех плановых мероприятиях, победил в конкурсе на лучшую поделку из природных материалов (нашел какой-то замысловатый корешок во время стоянки на берегу) и наверняка (тут и расспрашивать его не требовалось — это и так было ясно) пользовался успехом у зрелых путешествующих дам. И со многими родственниками успел повидаться. Но главное, говорил он с искренней, именно что с главной гордостью, нашел могилу отца.
— Что значит «нашел»? — изумились мы. — Там же чуть ли не центральная аллея на центральном кладбище!
Мы с сестрой росли с красивой легендой, что дед наш был первейшим и важнейшим пассионарным начальником в довоенном Сургуте. И при случае всегда шутили по этому поводу: дескать, остались бы там — получили бы корону по наследству и были бы сейчас олигархами почище Абрамовича с Дерипаской.
— Вы не понимаете, — поморщился отец. — Город-то вырос. Уже полмиллиона, наверное. А хоронили его когда? Пятьдесят лет уже? Шестьдесят?
— Ну хорошо. И как ты нашел-то?
— А вот сам не знаю. Долго искал, все ряды обошел — нет и нет. Теплоход уже скоро отплывает, времени в обрез, а я все никак не могу найти. Уже отчаиваться начал. Да, правда, почти отчаялся. Ну, думаю, бляха-муха, что же это такое? Стыдно же, приехал за тыщу верст, а отца родного могилу не могу найти. Ну, что делать?
Встал я тогда вот так, сложил руки (тут он показал, как он встал и как сложил) и посмотрел на небо: «Папа, ну где ты? Ответь, пожалуйста».
И будто кто повел меня. Я же все-таки помнил кое-что. Слева — береза, я на ней тогда две буквы ножом вырезал: К и В. Коренев Василий. Вот по этой-то метке я его и нашел. Букв уже и не видно почти, заросли, заплыли, но я разглядел. И место сразу узнал. Холмик маленький совсем, почти ровное место, никакого памятника, конечно, нет. Но я узнал. Почувствовал. И вот так с отцом все-таки встретился...
К этому моменту слезы уже открыто катились у него из глаз — и какие-то старческие, и какие-то детские.
Самое трудное в общении с родителями — говорить правду. Хотя это вообще невозможно. Так не хочется напрягать их и расстраивать. Вот и приходится все время что-то недоговаривать и что-то скрывать: реальную причину своего отсутствия (болел с похмелья), реальное положение дел на работе (уже невмоготу), реальную цену купленных вещей (и называешь ее вдвое-втрое меньше заплаченной).
И общение, как правило, получается предельно сдержанным, немногословным, сухим: да, нет, все хорошо. Правда хорошо.
Потом, конечно, коришь себя: ну что ты, не мог, что ли, расслабиться на минуту, сделать тон потеплее, раскрыться навстречу? И иногда это все же получается. Но чаще — нет. И не надо.
Однажды, будучи еще совсем начинающим мужем, я вусмерть рассорился со столь же юной женой и прямо среди ночи двинул к родителям через весь город. В знак протеста. Пешком. И шел часа три, не меньше, наматывая сопли на кулак, сыпля про себя, а то и вслух пламенными монологами.
В этом-то и был весь смысл — чтобы и ночью, и пешком, и так долго, с трагизмом.
А испуганный отец выглянул из спальни со словами:
— Произошло убийство? Ты замешан?
Ну и как вот с таким человеком говорить искренне, раскрывать ему душу? Понятно, что лучше если не врать, то помалкивать.
Даже если сейчас он исхитрится как-то связаться со мной, я все равно, мне кажется, не смогу отвечать ему нормально. Начну или сюсюкать, или мычать что-то обнадеживающее, или вовсе сочинять напропалую.
Потому что он еще и поразительно наивен. И аномально оптимистичен. И предпочитает верить людям, газетам, брошюрам о здоровье, рекламным буклетам и даже федеральным каналам. Так что ему можно втюхнуть все что угодно. И я постараюсь не разочаровать его.
— Да, папа, — скажу я, — наступил мир во всем мире, англосаксы отстали от нас и теперь только из вредности вяло собачатся с соседями.
Собак, кстати, уже посылали на Марс, скоро и люди потянутся, там будет целая колония, и нам дали самую большую квоту: помнят же все-таки, кто был пионерами, у кого особый путь через тернии...
А я по-прежнему играю в футбол. Ты даже не представляешь, какие чудеса сейчас творит спортивная медицина: такие методики восстановления, такие препараты (но не допинг, не беспокойся). Вот недавно встречались с бразильцами, я забил гол и сделал две передачи, а у них забивали Пеле, Кака́...
— Слушай, — скажет отец, — не надо так рьяно ограждать меня от суровой реальности, подслащать пилюлю. Лучше горькая правда. Ведь профукали же бразильцам, скажи честно.
— Да, папа, — сокрушенно признаюсь я, — выиграть пока не удалось. Но, как говорится, дали бой, выглядели достойно.
— И вот это правильно, это самое важное! Чтобы стараться, отдать все силы. Чтобы совесть была чиста и не в чем было себя упрекнуть. Вот как дед твой жил, да и я старался...
— Да, конечно, конечно, пап, я помню.
Конечно, я помню. А есть ли в чем меня упрекнуть?
На могиле его мы с сестрой хоть раз в год, но бываем. Причем выбраться стараемся обычно в мае — начале июня, пока сорняки не слишком вымахали. Позже уже стыдновато.
Нашим взрослым детям это не очень интересно, и раньше мы их с собой особо не звали. Только в последнее время как-то научились объявлять бодро, но с уместной скорбинкой:
— К деду давно не ездили, надо бы выбрать время...
И они стали соглашаться.
В этот раз сын довез нас до самого кладбища, мы в шесть рук быстро привели могилу в божеский вид и уже возвращаемся к оставленной у ворот машине.
Сын идет шагов на двадцать впереди, снятая майка лежит на плече, а под шеей между лопатками смешной островок растительности (не в меня: я, если честно, гораздо волосатей). Он не то чтобы отстранился от отца с теткой, просто хочет поскорей освободиться, заняться другими делами. А здесь объем работ оказался слишком мал, значит, нужен он нам был исключительно как таксист. Он не ропщет, не обижен, ведь давно знает нас как особ заполошных и инфантильных, и сейчас всего лишь снова последовало подтверждение. Но куда деваться, нас уже точно не переделаешь...
Тут оживает мой телефон, а звонящий определяется как «Папа». И от этого вся моя хваленая шерсть на загривке встает дыбом, жутко становится по-настоящему, ведь я вижу, что сын по-прежнему размеренно вышагивает впереди, из кармана ничего не вынул и к уху не поднес.
— Да, — осторожно отзываюсь я.
— Дед, это я, — говорит внук отрывисто, огрубляя голос (так, ему кажется, получается представительней). — А папа рядом? Он телефон дома забыл...
— А что такое, что случилось?
— Да ничего не случилось. Я просто на велосипеде в центр хочу съездить, на его велосипеде, а он может не дать, зажать. Попросишь его?
— Конечно, попрошу, только ты сначала все же сам с ним поговори. Только вежливо... Сына! — кричу я вперед и протягиваю трубку: — Егорка тебя!
Сын дожидается, берет телефон, слушает, хмурится, отворачивается и начинает строго, раздельно, но вполголоса воспитывать своего сына.
А до меня вдруг доходит: ну ведь надо же!
«Ну, папа, ты и нашел вариант!» — усмехаюсь я про себя.
Да, он все-таки нашел способ подать знак. Современный. Высокотехнологичный. И древний как мир. Со смыслом не самым прозрачным, но очень наглядным: про какую-то вечную связь отцов и детей — непрерывную, неразрывную. Как бы это ни казалось нам иллюзорным.
На краю рая
Юрию Юдину
Здесь вообще не болеешь с похмелья — сколько ни старайся. До того воздух живителен. Так Худобин обычно объясняет новым слушателям — как бы хвалясь и в то же время сетуя: дескать, рад бы соврать, да не могу, не моя заслуга, повезло просто. И ведь на самом деле почти не лукавит, говорит со знанием дела, потому что годами уже проверено. А если и сам порой все же не слишком бодр с утра, то терпит без стенаний и мрачности, и проходит у него все действительно быстро, никакой особой терапии не требуется.
Вот и сейчас он проснулся на веранде удивительно свежий. Еще лежит на диване, но поднял голову, подпер ее рукой и любуется видом из окон. Солнце добралось уже до середины сосновых стволов, и оранжевый их верх тоже, кажется, излучает свет. Золотистые пятна лежат на кронах подлеска — черемух, рябин, боярышника — и повсюду на траве. «Господи, какая же здесь все-таки красота! — думает он. — И величественная, возвышенная, и естественная, простая, такая родная. Рай для сибиряков, наверное, так и выглядит». Даже ревность берет, когда рядом обнаруживается еще чье-то присутствие: где-то квакает снятая с дежурства сигнализация и вскоре заводится мотор; в другом месте струя воды с тугим звяканьем бьется о дно металлического ведра.
Но люди здесь сейчас — точно не самые главные. В птичьем гвалте, если вслушаться, можно различить отдельные партии, кто-то включается в хор, а кто-то начинает солировать. Причем ясно, что все эти бесхитростные птахи упоенно выводят одно: «Здравствуй, Светило! А вот и я!» И именно это глупое желание каждой выделиться мешает им слиться в едином, мощном, согласно-гармоничном изъявлении восторга.
— А вот и я тоже! — произносит Худобин вслух — словно очередь занимает на всякий случай в этом ряду льстивых верноподданных. Благосклонность свыше и ему сегодня не помешает. Да хотя бы просто снисходительное подмигивание, легкая ужимка узнавания, просто короткий сиятельный кивок: ладно уж, живи.
Да, вчера, если честно, он слегка загулял. Но действительно слегка и уж точно не настолько, чтобы сразу такой остракизм. Брезгливо был послан спать на спартанскую голую веранду. Ну тут хотя бы понятно: выхлоп, храп, все дела. И главное, он и сам был с этим согласен: оступился — так ответь хотя бы таким вот неудобством (а на самом деле — даже неким забавным испытанием-приключением). Но зачем было самой уезжать — да еще с таким шумом, с вызовом такси, с хлопаньем дверью? И ведь с каждым разом все это только хуже — истеричнее, злее, публичнее. И такая безнадега, такая ненависть в глазах — аж мороз продирает и оторопь берет.
Отчего такая нескрываемая бешеная реакция?
Нет, он не пытается оправдаться, он никогда ни на кого не перекладывает вину: да, сам хорош, да, психанул, но нужно же честно все оценивать, учитывать все обстоятельства. Да и на себя тоже посмотреть!
Но нет, видно, уже не хочется. Хочется вот так: грубо, с желчью, с ядовитыми колкостями — когда оба метят в самое больное.
Вот до чего они докатились.
А началось-то все, как всегда, с ерунды. С привычного, в общем-то, и совсем не страшного напряга: свалились на голову гости. Это на даче не редкость, здесь этикет вольнее, и порой, кстати, выходит даже неплохо, и в конце все довольны. Вчера же просто не повезло: заехали с пляжа не самые близкие знакомые, а жене, уже принявшей пару фужеров, захотелось и их принять с повышенным градусом радушия. Поиграть в хозяйку великосветского салона. То ли оттого, что привезли они столько остатков разных вкусностей («Нас санкции как-то не особо коснулись»), то ли просто от скуки. Ну и чтобы ему, Худобину, досадить — но это уже позже. А сначала просто блажь: вот какая я милая и мудрая, всем моего душевного тепла хватит, заходите, гости дорогие, все берите и ведите себя как дома — то есть как хотите противно.
Сам Худобин, разумеется, поначалу тоже был обходителен, он со всеми старается так, но есть же предел терпению. Эти Старовойтовы рано или поздно начинают бесить своим самодовольством. Все вот эти детальки уверенным голосом: и какой сыр с каким вином лучше, и насчет чартеров из Новосиба на моря, и про культовый корейский сериал с рейтингом восемь и семь — аж с души воротит. Но в итоге еще и он оказался виноват: как же, не снизошел, не поддерживал разговор — и при этом демонстративно, это же бросалось в глаза, все заметили.
А вот и неправда, разговор он пытался поддерживать, точнее, слушать, да кивать, да иногда вставлять поощряющие междометия: «Во как!», «Да ладно!», «Ну врешь же бессовестно!» Потому что всерьез воспринимать монологи этих чванливых купчин было выше его сил. Особенно когда после его невинного замечания, что расслабиться в пятницу вечером не грех, Старовойтов возбудился как-то излишне язвительно:
— О, олд скул, старая школа, обожаю! Всю неделю впахивать за копейки в грязи и солидоле, чтобы в пятницу нажраться до зеленых соплей, но это же святое! Мой родитель такой был: попробуй ему что скажи в тот момент — сразу в рог! Маманя потому и посылала меня в гараж, сама не ходила. А там мужики ржут: «Ага, Гаврилыч, с вещами на выход, за тобой конвой». А родителя это еще больше заводило: лоб хмурит, носопыркой выдыхает, кулаки сжимает, а сил-то не то что вдарить — просто приподняться уже нет!
Тут все было отвратительно: и сама лексика, и сам тон — псевдоумиленный (таким же писклявым прожженные сплетницы передают речь соседки-профурсетки), и то, как Нинка Старовойтова захихикала, когда «родитель» по дороге домой навернулся в канаву (это же знак свыше — там ему и место!). А главное — задевал какой-то явный намек ее мужа на то, что Худобину эти интимные подробности с грязью и солидолом как-то понятны и близки, ему это канувшее в канаву прошлое чем-то ценно.
Хорошо еще, что внук у этих барыг пока на них не похож — нормальный раскормленный очкарик, с ним-то Худобин и начал в конце концов общаться, затеял возню на площадке у въездных ворот. «Стражались» березовыми палками (их много у него возле крыльца — с каждого выхода в лес такой ладный посошок приносит), но и тут опять не угодил: это ведь опасно, можно в глаз попасть, и что вы бегали и орали, как безумные, и что ты хотел этим показать?
И кстати, о посошке. Что за спектакль ты устроил с «древним казацким ритуалом расставания»? С заоколичной, забугорной и всеми этими дурацкими притопами-прихлопами?
Да я, что ли, так гордился своими казацкими корнями? И я, что ли, виноват, что он пить не умеет? И сразу все понты послетали — и поперло из парня естество, все гнилое нутро. Тебе это понравилось?
Мне не понравилось, что тебе это доставляет удовольствие — унижать людей.
Не унижать, а раскрывать. Докопаться до глубоких казацких корней.
Это в твоем скудном скукоженном мирке уметь пьянствовать — доблесть и гордость. А другие люди живут в настоящем мире — открытом, богатом, насыщенном...
Ну да: сытые люди — на досуге открывшие в себе богатый внутренний мир. И теперь вываливающие его на других. Это вот такие тебе нравятся?
Да, представь себе. Вот такие — которые еще чего-то хотят. И могут. В отличие от тебя.
Да пошла ты! Вот и общайся с такими.
Да сам ты пошел!
И он пошел. Общаться с другими людьми.
Общение на дачах, правда, не предполагает особой глубины. И разнообразия тоже. Заходишь в ближайший дом и с порога интересуешься:
— Ну, и что вы о себе думаете?!
Хозяйка, понятно, начинает суетиться, пытается вспомнить, что лишнего могла сболтнуть вчера на стихийном дамском саммите возле углярки. Зато хозяин — олд скул! — все понимает правильно.
— Дружище, — говорит он, — вот ты-то мне и нужен! Есть одно дельце...
И потихоньку-потихоньку подвигает тебя в сторону кухни: там в холодильнике все давно припасено как раз на такой еженедельный случай.
При желании можно даже не задерживаться здесь надолго, а посетить еще пару-тройку мест, но Худобин в этом вопросе консервативен: уж сидеть так сидеть. Это в романах каких-то полузабытых юношеских перекочевывали из бара в бар одной компанией — и до сих пор непонятно, какой в этом смысл, какая радость.
Беда в том только, что и с этим, и с другими соседями на сто раз уже все переговорено, а здесь конкретно польются одни воспоминания об армии. Это ведь грустно, когда самые сильные впечатления у мужика были аж тридцать лет назад, и все друзья только с тех пор, и вообще все мировоззрение оттуда. Причем это опять же не Ремарк с Хемингуэем — никакой высокой нежности, или стойкости, или отваги. Тут всё приземленнее: как в самоволки бегали в женскую общагу, и как в каптерке бухали со старшиной, и — самое любимое — как после дембеля на целый месяц зависли в Керчи у боевого кореша: эх, счастливое было время!
В общем, не так-то и долго Худобин здесь пробыл, еще до полуночи вернулся к дому. Жена сидела на ступеньке крыльца с сигаретой. А он подошел вполне твердо, не шатаясь, и даже с легкой, чуть шаловливой и чуть покаянной улыбкой.
И напрасно вот так, расслабленно: от него явно ждали другого. Видимо, на коленях должен был ползти и биться лбом в отполированные сосновые корни.
Холодный изучающий взгляд. Несколько презрительных слов. Окончательный вывод, краткий приговор и изгнание. А потом почти сразу вдруг — после какого-то сонного его замечания (да просто огрызнулся, как обычно!) — шумные сборы и отъезд.
Ну ничего. Не в первый раз. Как-нибудь оно все рассосется, выправится.
И вот он утром в воскресенье один в лесу. Воскрес один в раю. То есть изгнан в рай. И чувствует себя замечательно. Редкое, какое-то незаконное и оттого еще более ценное чувство.
Так изредка случалось, когда дети были еще маленькие. Их рано уведут куда-то — к теще погостить, в театр какой-нибудь или даже в больницу, — а ты остаешься один, в покое и неге, и подленько этому радуешься.
Худобин поднимается, одевается. Умывается. Включает чайник.
Думает: завтракать или нет? Пока что-то не хочется.
Один бутерброд с кофе — чтоб покурить нормально.
А чем потом заняться?
А чем, кстати, занимаются в раю — помимо игрищ с гуриями и игры на лире/свирели? А если он не умеет играть? Какие-то курсы будут подготовительные — хотя бы краткосрочные, ускоренные?
Вряд ли. Что за рай с обязаловкой, муштрой? И зачем там ускоренные? Там же вечность, торопиться некуда.
Лучший вариант — почитать. Давно мечтал об этом. Чтобы вот так день посвятить. Вытащил на улицу шезлонг. Набрал с полки целую стопку книг, сосланных из городской квартиры. Все-таки нужно дать им еще шанс. Не все же отправлены за десятый километр из-за низкого культурного уровня. У жены на этот счет своеобразный — и довольно суровый — взгляд. С явной оглядкой на дизайн интерьера. Может, кто-то просто обложкой не вышел, поистрепался, поднадоел. В общем, все как у людей...
Немного смущаясь («На старости-то лет!»), открыл Лондона, «Сердца трех». И поразился буквально детскому, чистому и беззастенчивому желанию автора нравиться — причем самым наивным и по-детски неискушенным читателям. Состряпать добрый и светлый продукт на продажу. Что же тогда было в киносценарии, который другой автор сначала строчил сразу вслед, а потом даже опередил писателя? Уже в романе голимый Голливуд! Качая головой, Худобин с улыбкой отложил книжку. Спасибо, конечно, но больше не надо...
Вторым был выбран любимый Бёлль, но и тот не покатил. Пронзительная честность и чувство вины — как-то слишком актуально. Хотя потом перечитать все равно придется...
Потом были другие, совсем незнакомые авторы (хватал же в букинистических все подряд, столько денег спустил!), но никто не зацепил по-настоящему. Настроение, видно, не то. Потому и сесть самому писать — никакого желания, заранее ясно, что ничего не выйдет. Будет смотреть в окно на деревья и птичек, а все эти потуги покажутся суетными, мелкими... Ну одну-две фразы, может, и выдавит. С прошлого раза, например, осталась такая — и та сугубо дневниковая, просто подсмотренная сценка возле дома: «Окончание уроков в начальной школе. Родители-бабушки-дедушки выстроились в шеренгу перед входом, как на аукционе. И я бы тоже взял себе парочку маленьких и умненьких...»
Нет, нужно просто погулять. Проветриться на солнышке. Продышаться. Перезагрузиться.
Выходя, он еще раз бросил взгляд на корзину, висящую на крючке возле печки.
Может, все же сходить за грибами? И потом привезти домой кучу. С ложной скромностью тяжело выставить отдельные пакеты с «жарительными» и «солительными» на кухонный стол.
«Ого! — скажет жена. — Это откуда столько? Ну ты даешь! Кормилец!»
Ага, размечтался. Скорее опять наткнешься на ледяной взгляд: «Кому это? Мне — не надо. Сам обрабатывай. Достали уже твои грибы».
«Его» грибы. Он себе, что ли, их собирает? Раздают же и детям, и родне, и знакомым!
Хотя и правда — перебор уже с ними. В какой-то пунктик это начало превращаться. Примитивность какая-то, ограниченность, бзик. И со стороны, наверное, выглядит смешно — постоянно с корзиной. Недавно узнал, как в деревне его называют: «Ленин и грибник». Жену Лена зовут. Она, поди, и пожаловалась: вся морозилка битком! Куда нам столько? Лучше бы внуками побольше занимался, о себе я уж и не говорю...
Он медленно шагал по недавно отсыпанной дороге и вслух костерил прогрессистов, которые до такого додумались. Мало того, что выглядит это уродство с мертвыми белесыми камнями как шрам на теле бора, так еще навалили крупный щебень, с тонкой подошвой идти вообще невозможно. А этим новым ценителям природы на джипах и квадроциклах — самое то! Нет чтобы прогуляться, жир свой растрясти — зачем? Есть же колеса и мотор под задницей! И теперь в лесу везде колеи, трава помята, кусты поломаны, самые укромные грибные места повытоптаны. Зато как удобно — «лес шаговой доступности»! Да не шаговой, в том-то и дело! И для тех, кто сам пешком не ходит, кого сюда вообще пускать нельзя! Тьфу ты, черт, опять он про свои грибы...
Еще несколько шагов — и из прохлады леса Худобин вынырнул на открытое пространство с теплом и солнцем. Впереди до самого горизонта — поле, пересекаемое тянущимися к реке параллельными колками. Местные знают, что всего их пять, так, в порядке отдаления, и обозначают: «был во втором», «в четвертый уже не ходите — я прошел»; похоже, для снегозадержания когда-то были посажены, но с земледелием в этих местах, слава богу, давно покончено.
А вправо уходит дорога к обрыву над Томью.
Эту дорогу и обихаживать не надо — накатана до бетонного блеска, причем это уже новая, спрямленная; старая, полукругом, уже почти заросла: природа сама себя лечит. Впрочем, с нами, такими тупыми и неблагодарными, что ей еще остается?
Он хотел даже разуться, почувствовать ступнями живую твердость земли, ласковую нежность пыли, но почему-то не стал. Как-то слишком киношно. Не в пионерлагере же. Пошел так.
Смотрел по сторонам. Отмечал изменения вокруг. Высокая трава в поле уже как-то загрубела, и цвет ее стал не таким сочным. Как и у неба голубой не столь ярок. А у березы справа одна прядка уже желтая. Да она не плакучая, она паникерская!
Любимый пятачок на обрыве был пуст. Приятный сюрприз. В последнее время в выходные сюда обычно не втиснешься. Одна компашка за другой. Молодые, чужие. А ведут себя так, будто это их давнее место. И потом после них вся площадка в мусоре. И даже если крупного нет (могут и разовый мангал великодушно оставить), то все равно — пробки, упаковки, презервативы... Осмотрительные, значит, предусмотрительные... Что ж такое классное место на будущее сохранить не хотите, даже убрать за собой не можете? Неужели самим не противно?!
Ладно, не горячись. Вот же никого нет. Пользуйся, наслаждайся.
Он встал за метр от края, раскинул руки, подышал полной грудью.
Оглядел весь окоем: лента бора на этом высоком берегу, река, блестящая на солнце, текущая издалека слева и делающая большую петлю, а за ней город, не слишком богато, но плотно застроенный, и все расширяющийся, выбрасывающий отростки по сторонам.
Ну вот, а ты говоришь: «узкий, скукоженный мирок». Смотри, на какой оперативный простор выбрался! Какая впереди перспектива!
Пекло так, что вполне можно было загорать. Худобин снял майку, вывернул на левую сторону, положил на пружинистый клок конотопа и лег на нее спиной. Закрыл глаза. Рядом, он знал, проходит по земле муравьиная дорожка, миграционный маршрут или контрольно-следовая полоса, какой-нибудь патрульный сейчас наверняка им заинтересуется. А сверху мягкий ветерок обдувает. Благодать.
Лежать вот так и ни о чем не думать, ничего не хотеть, ни о чем не жалеть.
И совсем уйти хорошо бы вот так — вот здесь и вот так — просто растаять, раствориться в ветерке, и все.
Ага, и как ты все это себе представляешь? Подвезут на кровати скорбные родственники, рядом эта штука на колесиках с двумя капельницами, и смазливая сиделка в халатике на голое тело наклоняется заботливо...
Он сел, достал сигареты и спички. Докурив, тщательно затушил бычок. И, немного стесняясь, отщелкнул его вниз, куда-то в кусты на склоне крутой заросшей скалы. Так ведь хотя бы не на видное место!
Возвращался он другим путем — подлиннее, зато по солнышку, через несколько красивых полян и к тому же без этой ужасной щебенки. Оставалось всего ничего, когда что-то буквально потянуло его заглянуть в лес.
Здесь справа от тропинки растет великолепная сосна, и в самый первый приезд сюда, в самый первый выход в лес с женой и сыном, они нашли возле нее сказочную семейку белых. Сразу девять! И все — как на подбор, больше среднего, но совсем не червивые, плотные, как туго накачанный кожаный мяч, и самой благородной расцветки — светло-кофейного цвета нога, верх шляпы темно-вишневый, а испод зеленоватый — прямо как на картинке в хрестоматии по родной литературе! С тех пор Худобин всегда заглядывал под эту сосну, если проходил рядом, и, конечно, не так много и счастливо, но кое-что все же собирал.
А тут сразу можно было понять, что дело не чисто. Слишком уж фантастично, нереально. Идеальное искушение. Ловушка. Подстава.
Всего в двадцати метрах вглубь леса торчал на самом виду огромный белый! Для такого профи, как Худобин, трофей выглядел слишком простым, унизительно легким, но инстинкт ударил в голову, и он достал из кармана ножик. Подошел и присел рядом, надеясь все же на лучшее. Да, уже переросток, но, кажется, еще не очень дряблый.
Он сунул обе руки под громадную шляпку. Левой продвинулся вниз по ножке и нащупал основание у самой земли, а правой начал пилить, преодолевая скрипящую восхитительную толщину...
И вздрогнул-всхлипнул от острой боли, молнией сверкнувшей по телу от среднего пальца: будто кто-то в отместку за священный боровик полоснул его по загребущей руке своим ножиком. Злосчастный гриб отлетел в сторону, а прямо перед собой на траве Худобин увидел свернувшуюся в кольцо или пару колец некрупную черную змею.
Она лежала даже как-то виновато, и Худобин не испытал к ней никакой злости. Лишь обычное невольное отвращение, да и то с сожалением: ну зачем ты так, я же свой...
К счастью, ближайший автобус отходил из Журавлей уже через полчаса. Так что с вызовом скорой или такси и заморачиваться не стоило: быстрее все равно бы не вышло.
Ехал тридцать пять минут, прислушиваясь к своим ощущениям. Рука с укушенным пальцем начала опухать, тыльная сторона ладони становилась как подушка, но больше никаких тревожных симптомов.
Потом еще пара минут ходьбы до травмпункта. Регистраторша сразу сама провела его к кабинету, перед которым сидели шесть или семь мужиков — и почти все приличного вида.
— Укус змеи, проходите! — донеслось вскоре из приоткрытой двери, и Худобин, сопровождаемый почтительными взглядами, с чистой совестью прошел без очереди.
Усталый врач-брюнет, похожий на кавказского сепаратиста, выбравшего все же мирный путь разрешения конфликта, расспрашивал бесстрастно: что, где, когда. И вид у него был такой, что даже пытаться не стоило его разжалобить, или рассмешить, или просто удивить.
Зато самого Худобина удивила процедурная сестра (он как-то понял, что она именно процедурная, хотя сроду, то есть с детства, не был на приеме у врача), спросившая, сфотографировал ли он змею.
— Да как-то не до того было, — промямлил он. — А что, надо было? Тут первая мысль — бегом в город, к вам.
— Но вы точно уверены, что это была гадюка?
— Да уж гадюку от ужа я отличу, а других у нас и нет.
Она поставила ему укол. Но оказалось, это еще не все. А от столбняка вам ставили когда-нибудь? И когда? Полтора года уже прошло?
Наверняка не ставили, но он тупо начал вспоминать и не смог ничего внятно ответить. Тогда придется ждать полтора часа, сказал врач. Возникла неловкая пауза. Ясно было, что ждать столько времени глупо. А поскольку он никуда не уходил (да его и не отпускали!), как-то само собой вышло, что ему почти сразу вкололи еще и это.
— Да, и снимите кольцо, — сказал врач. — А то как бы резать не пришлось.
Резать кольцо или палец, он не уточнил, и Худобин быстро свинтил кольцо с пальца.
— Ура, я свободен! — сказал он.
Но, видно, и эта шутка была здесь слишком банальной.
— Нет, — сказал врач. — Ни в том, ни в другом смысле. Вы все-таки в больницу сходите. И прямо сейчас. Я выпишу направление. Это серьезно. Недельку полежите под наблюдением — зато потом можно быть спокойным, что ничего не случится.
— Недельку? — ужаснулся Худобин. — Так я же быстро все успел!..
— Это в лучшем случае, — сказал врач. Он явно не был расположен разделять его эйфорию. Возвращение к жизни — это все так зыбко, так условно.
Худобин дошел до больничного городка и остановился у калитки. Надо покурить, а то вдруг и вправду положат. И еще позвонить жене.
Куря, он нашел строчку в списке «Последние».
— Слушаю, — сказала она после пятого гудка. — Говори.
Сухо. Деловито. Спокойно.
— Знаешь, я, наверное, домой не приеду, — сказал он.
— Так. Ясно. А новости какие-нибудь будут?
— Будут. Я в больницу пришел.
— В наркологию?
Он рассмеялся:
— Самое смешное, что да. Меня змея укусила.
Жена не дрогнула.
— Это что, у тебя уже глюки?
— Нет.
— Хорошо. Тогда что случилось?
— Говорю же: цапнула гадюка. Это такой змей-искупитель. За все мои прегрешения. Вот и отвечу за все. Как Вещий Олег.
— Ты меня совсем, что ли, довести хочешь? Какой еще Олег, какая змея?
Ярость благородная уже начинала вскипать, но он заставил себя говорить размеренно, четко.
— Нет, я не хочу тебя довести. Я хочу донести до тебя информацию. А ты можешь хоть раз выслушать и не думать только о себе? Меня укусила змея. В лесу. Небольшая такая. Но ядовитая. Гадюка.
— Это что, правда?
— Да, святая. Я пришел в больницу. На всякий случай звоню попрощаться. Не поминай лихом.
— Господи! — сказала она. — Господи. Подожди. Дай я приду в себя.
Ему вдруг стало ужасно жалко ее. И стыдно за себя. Ну нельзя так. Наоборот, надо поддержать человека.
— Да не бойся, у нас же они не смертельные. Это в Средней Азии — да. Ну поваляюсь в больничке недельку-другую...
— Точно? Ты уверен? Подожди, а в какой ты больнице? Я тоже приеду. На такси. Я быстро.
— В «трешке». Да не надо. Может, меня и не положат...
— А чувствуешь себя как? Голова не кружится? Жар есть? Ты вообще в порядке?
Она по-настоящему была напугана, и Худобина это как-то мелочно радовало.
— Да в порядке вроде. Рука только начала опухать.
— Рука? Она в руку, что ли, укусила? Это как вообще произошло?
— Да не важно, потом расскажу. Сейчас время дорого. Потом расскажу — если доведется...
— Господи, — опять сказала она. — Только с тобой это и могло произойти. Наверное, одна змея на весь лес, и вы нашли друг друга...
И замолчала. А он, чувствуя себя настоящим змеем, прислушался, не плачет ли она.
— Ну хочешь, я не буду противоядие ставить, — это будет мне наказание, — осторожно пошутил он.
— Ты что, совсем уже дурак? Ставь немедленно! Только без меня не ложись. Дождись. Я скоро буду.
— «Без меня не ложись» — звучит очень обнадеживающе...
— О господи, ты неисправим, — сказала она, явно начав успокаиваться.
— Надеюсь, — сказал он.
В больнице, в кабинете у врача, куда он тоже попал без особых проволочек, Худобин искренне и почти не рисуясь отказался от госпитализации. Его пытались убедить, но он уперся: да нормальное самочувствие! Я же быстро поставил укол. И змея-то была не очень крупная, может, еще детеныш. Только лекарства, какие нужно, выпишите, я все буду принимать, честное слово.
Ладно, вольному воля. Только потом пеняйте на себя. Мы вас предупредили.
Пока заполнялись бумаги, минут пять он просидел в холле спокойно. И вдруг резко почувствовал дурноту. Страшную слабость. И холодный пот покатился буквально в три ручья.
Чуть-чуть еще поупрямившись внутренне, Худобин пристыженно вернулся в кабинет:
— Док, я сдаюсь. Передумал. Что-то мне нехорошо.
Медсестра, ворча, стала оформлять документы.
Он сидел, опустив голову, сложив руки на коленях (джинсы тоже уже все промокли, и плевать), и пытался расслабиться, замереть, как бы закуклиться — так, казалось, сил сохранится больше.
И тут в кабинет зашла его жена. Вид у нее был слегка потерянный, но в то же время решительный, даже воодушевленный. Всю жизнь она боялась за непутевого мужа как-то абстрактно, а тут угроза обрела конкретные черты. И более-менее ясно, что надо делать.
Он кивнул ей и несчастно улыбнулся. Она, поджав губы, покачала головой. А он продолжал держать на лице слабую улыбку.
Скорее всего, подумал Худобин, она скажет, что он сам разрушил свою природную защиту, свой баланс душевного здоровья, иммунитет, ауру, карму или что там еще. И чуть ли не сам приманил к себе ядовитого гада.
Ну и ладно, и пусть скажет.
Зато теперь он знал, что наверняка будет спасен. Несомненно. Так или иначе.